Продолжение, части первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая
Часть восьмая
 Архиеп. Никанор: Не говорите о высокой нравственности даже известного Пушкинского идеала женщины: бедная, жалости сердца достойная!
Архиеп. Никанор: Не говорите о высокой нравственности даже известного Пушкинского идеала женщины: бедная, жалости сердца достойная!
Осуждающе тыкать пальцем в «Татьяну» не поднимается рука. Не нам, как говорится, судить. Но так говорят о людях, а здесь — литературный персонаж, или образ, который для того только и сочинён, чтобы мы могли о нём высказаться, не боясь осудить человека, созданного Богом, и подвергнуться за это Божьему суду. «Татьяна» — это, простите, виртуальный тренажёр для упражнения мыслей и чувств, но и с тренажёром постараемся быть милостивы. Поэтому в тоне, заданном владыкой Никанором, попытаемся поговорить о ней — жалости сердца достойной «Татьяне».
Архиеп. Никанор: Состоя в супружестве, она всею душею, сердцем и помыслами принадлежит предмету своей страсти, сохраняя до сей минуты для мужа верность только внешнюю, о которой сама отзывается с очень малым уважением, чуть не с пренебрежением.
А что было делать бедняжке? Как поступить? Бросить мужа и уйти к «Евгению»? Давайте спросим у Достоевского. Он, говорят, пророк. Он всё знает и объяснит. «Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным», — говорит Достоевский в Пушкинской речи.
Достоевский:
И буду век ему верна.
Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы. (Г.С.: Об этой «правде» мы ещё поговорим.) О, я ни слова не скажу про её религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака — нет, этого я не коснусь. (Г.С.: Почему же? Всё-таки XIX (а не XX век) на дворе, и послушать православного писателя собрались православные люди. Да всё потому же: Достоевский учит советскому отношению к советской женщине). Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «Я вас люблю», потому ли, что она, «как русская женщина» (a нe южная или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием честей, богатства, светского своего значения, условиями добродетели (Г.С.: не понимаю, что такое «условия добродетели»)? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это.
Г.С.: Это всё, конечно, о советской женщине. Русская женщина, как и все другие, даже, как южная и как «французская какая-нибудь», была и остаётся женщиной. А эти и дальнейшие слова Достоевского я бы назвал советской пропагандой, или накачиванием эгрегора[1].
Достоевский: Но она «другому отдана и будет век ему верна». Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, но за которого вышла потому только, что ее «с слезами заклинаний молила мать», а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «молила мать», но ведь она, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его.
Г.С.: Всё правильно, всё истинно по-советски говорит Федор Михайлович. Ведь что такое советская жизнь? Это правильность и преданность на словах, а в душе — фига.
Достоевский: А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастии? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо (! — Г.С.) надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастие, остаться навеки (! — Г.С.) счастливыми?
Г.С.: Здесь Достоевский выдаёт свои мысли за мысли «Татьяны». Она едва ли задавалась вопросами, которыми вдруг озадачил своих слушателей Федор Михайлович. Архитектор, здание, фундамент, в фундаменте замученное всего только одно человеческое существо… Это всё слова и думы самого Федора Михайловича, которые он вкладывает в «Татьяну». Кстати, так делалась и делается ВРЛ. Один сочинит, другой по-своему истолкует, третий провозгласит сочинённое истиной, четвёртый обяжет думать так и не иначе… Можно было бы оставить этот пассаж Достоевского без внимания как не относящийся к «Татьяне», но предлагаю задержаться на нём. Всё-таки в этой статье мы говорим о пастырях и наёмниках, ворах и разбойниках, а не о «Татьяне».
 Ф. М. Достоевский (1821-1881)
Ф. М. Достоевский (1821-1881)
Начнём с того, что слова Достоевского о счастье, выстроенном на фундаменте несчастья, которые он высказал от лица «Татьяны», перекликаются со словами «Ивана Карамазова» о слезинке ребёнка. Понятно, что последние слова также принадлежат Достоевскому, а не «Ивану», как и первые не «Татьяне». Или это не понятно? Я почему об этом спрашиваю? Потому что однажды на мою реплику о том, что гуманисты взяли на стратегическое вооружение слова Достоевского о слезинке ребёнка, мне заметили, что это слова не Достоевского, но его фигуранта, чьё мнение Достоевский не вполне разделял. Что же выходит? Достоевский сам по себе, а его фигуранты сами по себе? Не лучше ли в таком случае всех фигурантов Достоевского назвать фантазмами?
Понятны слова, которые обычно пишут издатели: «мнение редакции может не совпадать с мнением авторов», потому что есть редакция, и есть авторы, которые расходятся во взглядах, и это нормально, что расходятся. Но как понять, что мнение Достоевского расходится с мнением своих персонажей? Короче, либо следует признать, что слова всех персонажей Достоевского принадлежат самому Достоевскому, либо согласиться с тем, что суть его художественной литературы, как и всей ВРЛ, изложена в Евангелии в следующих словах: И [Иисус Христос] спросил его [бесноватого] как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много (Мк. 5:9).
Итак, слова Достоевского о невозможности счастья, выстроенного на фундаменте чужого несчастья, вложенные им в «Татьяну», перекликаются с его же словами о слезинке ребёнка, которые он высказал от лица «Ивана». Читаем их.
«Иван Карамазов»: Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я пожалуй воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулаченком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «боженьке»! Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены. И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями не отомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.
— Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша.
— Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. — Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, — отвечай: Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой (выделено мной здесь и ниже. — Г.С.), с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулаченком в грудь и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.
— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?
— Нет, не могу допустить. Брат, — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, — ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нем, а на Нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: «Прав ты, господи, ибо открылись пути твои».
— А, это «единый безгрешный» и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся напротив всё время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно, в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут десять, то я б ее тебе рассказал?» (Везде курсив Достоевского. «Братья Карамазовы». Том 1, часть 2, книга 5. Бунт).
Как видим, мысль и главные слова в приведённых отрывках из романа «Братья Карамазовы» и Пушкинской речи схожи: «архитектор», «здание», «счастье», «замучить всего лишь одно только крохотное созданьице»… Кстати, роман и речь писались Достоевским почти в одно время, в последние годы жизни. Но есть разница, и она заключается в том, что, если в Пушкинской речи слова́ о счастье, построенном на несчастье, не так разукрашены, хотя Достоевский постарался и здесь тронуть слушателей описанием обесчещенного старика (писатели они такие, хлебом не корми, дай только поцветастее что-нибудь сочинить о дрожащем теле младенца и кулачонке, ударяющем в худенькую грудь), а, во-вторых, в том, что в романе эти мысли доведены, как кажется, до конца — до почтительнейше возвращённого Богу билета. Я сказал: «как кажется, до конца», потому что до конца Федор Михайлович не высказался и в «Братьях Карамазовых». Где же конец? Где должен оказаться возвративший Богу билет «Иван Карамазов»? Неужели он пойдёт туда, куда захочет сам, проявив свинское неуважение к Творцу? Нет, конечно. Он окажется в геенне.
Чтобы окончательно убедиться в том, что и в Пушкинской речи Достоевский говорит о том же — о вечном рае и вечном аде, а не только о «Татьяниных» счастье и несчастье, взглянем на поставленный Достоевским вопрос шире.
Достоевский: «И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастие, остаться навеки счастливыми?» (Пушкинская речь).
Г.С.: Согласились бы мы, читатель, принять такой рай, в фундаменте которого ад? И смогли бы, приняв райское блаженство, высящееся над страданиями горящих в геенне, — «остаться навеки счастливыми»? Прошу читателей обратить внимание на оговорку Достоевского, которую нынче модно называть «оговоркой по Фрейду», — «навеки». Зачем в речи о земном счастье вдруг произнесено слово «навеки»? Не затем ли, что Достоевский, говоря о строительстве здания «с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой» (обратите внимание, что эти слова в романе «Братья Карамазовы» и в Пушкинской речи совпадают буквально и на то, что там и здесь стоит слово — «неминуемо»), имеет в виду не земное счастье? Как бы там ни было, эта оговорка даёт нам право продолжить мысль Достоевского о «Татьяне» туда, куда мы её продолжили — в вечность. Итак, читатель, согласились бы вы на вечный рай, в фундаменте которого вечный ад? Впрочем, вопрос у Достоевского стоит ещё шире.
Достоевский: Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос.
Г.С.: Здесь, как я понимаю, Федор Михайлович предлагает слушателям личность Главного Архитектора обсудить, предварительно настроив их против Него, как «Иван» «Алёшу», а лучше сказать, как змий Еву. Вот вам, читатель, смирение по Достоевскому: «Смирись, гордый человек!» Может, помните этот его призыв в Пушкинской речи? Впрочем, вопрос, поставленный Достоевским, весьма интересен. Но прошу вас, не думайте долго над ним. Бес только того и ждёт, чтобы мы клюнули на его крючок, на котором в качестве приманки насажены слова о гуманности и любви. Не нужно ловиться на бесовский прилог и попадать в ловушку. Не ищите ответов на вопросы Достоевского без помощи святых отцов. Всё давно сказано учителями Церкви. Вот их-то и нужно читать, а не художественную литературу. Вот тогда-то будет в головах порядок, а в чувствах гармония.
Продолжение следует.
Иерей Георгий Селин
Сайт «Ветрово»
25 октября 2019
[1] В каббале, масонстве, оккультизме и прочей эзотерике существует понятие эгрегора. Эгрегоры – это «некие энергетические структуры, которые находятся в информационном пространстве над вами и способны влиять на ваши мысли и восприятие мира». Буквальный перевод греческого слова «эгрегор» — бодрствующий. Что же делают эзотерики, чтобы эгрегор бодрствовал? Накачивают его своей умственной энергией. В советской эзотерический традиции существует осязаемый эгрегор — труп Владимира Ленина, который «и теперь живее всех живых», хотя уже сильно сдулся, «разложился на плесень и на липовый мёд» (Егор Летов). ↩



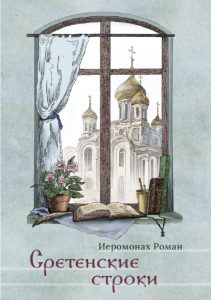




Отец Георгий, смутило использование Вами словосочетания»накачиванием эгрегора», хотя Вы и добавили ссылку на понимание данного термина. Поскольку использовали данный термин, то спрошу.Верно ли что оккультисты обманулись в понимании этого явления, т.е. влияющего на мысли и восприятие мира и его правильно называть словом бес.
2.В конце статьи Вы пишите: «Не ищите ответов на вопросы Достоевского без помощи святых отцов. Всё давно сказано учителями Церкви. Вот их-то и нужно читать, а не художественную литературу. » Могли бы пожалуйста привести ответы на эти вопросы, если сложно цитатами из Святых Отцов, то хотя бы ссылками на конкретные их творения.Спасибо!
Простите за задержку с ответом, уважаемый Александр. По обычаю священническому сквернил субботу ) (Мф.1 2:5).
Конечно, речь идёт об идоле. Вот и весь «эгрегор».
МЫ ЗНАЕМ, — говорит апостол Павел, — ЧТО ИДОЛ В МИРЕ НИЧТО, И ЧТО НЕТ ИНОГО БОГА, КРОМЕ ЕДИНОГО (1 Кор. 8:4).
Идол это ничто, превращённое в нечто усилиями людей. Как делается пушка? Берётся дырка и обливается чугуном. Точно так делаются идолы. Берётся ничто, обливается бронзой и обставляется цветами. Или окружается миллионами слов и печатается многотомным собранием сочинений. Или обрисовывается красками и выставляется напоказ. Или покупается в сетевом магазине и включается в розетку. И т.д. и т.п. ПОДОБНЫ ИМ [идолам] БУДУТ ДЕЛАЮЩИЕ ИХ И ВСЯКИЙ, КТО НАДЕЕТСЯ НА НИХ (Пс. 134:15-18).
Ответы Златоуста на вопросы Достоевского будут в 9-ой части статьи.