
Феликс Антипов в роли священника в фильме «Драма из старинной жизни» (реж. И. Авербух, «Ленфильм», 1971 г.)
В галерее созданных пером Лескова сатирических портретов духовенства Русской Церкви привлекает внимание крайне негативный собирательный образ священника в рассказе «Тупейный художник», поскольку в данном произведении, ко всему прочему, содержится характерное для романтизма религиозное противопоставление художника как «истинного исповедника Христова» и духовного лица канонической Церкви как, соответственно, исповедника ложного.
«Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев. Жорж Занд умерла деисткой, твердо веря в Бога и бессмертную жизнь свою, но об ней мало сказать этого: она сверх того была, может быть, и всех более христианкой из всех своих сверстников — французских писателей, хотя формально (как католичка) и не исповедовала Христа. Конечно, как француженка, сообразно с понятием своих соотечественников, Жорж Занд не могла сознательно исповедовать идеи, что “во всей вселенной нет имени, кроме его, которым можно спастися”, — главной идеи православия; но, несмотря на кажущееся и формальное противоречие, повторяю это, Жорж Занд была, может быть, одною из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою — в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). Отсюда и признание долга, и строгие нравственные запросы на это, и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в ее время, в такой силе понимавшего, что “не единым хлебом бывает жив человек”. Что же до гордости ее запросов и протеста, то, повторяю это опять, эта гордость никогда не исключала милосердия, прощения обиды, даже безграничного терпения, основанного на сострадании к самому обидчику; напротив, Жорж Занд в произведениях своих не раз прельщалась красотою этих истин и не раз воплощала типы самого искреннего прощения и любви» (Достоевский Ф. Дневник писателя. 1876)[1]. В аналогичном духе христианские мотивы используются и в рассказе Лескова, где за «самым полным исповеданием Христовым» иными смертными (в противопоставление церковникам как «менее их христианам» по своим нравственным качествам) скрывается тонкая гордыня, собственно, и заключающаяся в самом этом противопоставлении художником своего высокого ремесла (художественного творчества) как служения «нравственным идеалам» – религиозному культу официальной Церкви.
Оппозиция эта здесь далеко не случайна, но имеет под собой духовные основания, принципиально различные целеполагания и устремления. Согласно учению Церкви, «дела бывают хорошими и худыми не сами по себе, но по Божию о них определению» (свт. Иоанн Златоуст). «…Воля Божия и всеспасительная в том только и состоит, чтобы делать добро единственно лишь для Духа Святого», или ради Христа; тогда как «собственная воля наша научает нас в услаждении нашим похотям, а то и, как враг научает, творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать, им приобретаемую» (свт. Василий Великий). И последнее как раз свойственно нравственному максимализму романтизма, что и характеризует его как форму духовного самоуслаждения, скрытых за мнимой добродетелью смертных грехов тщеславия и гордости.
Напомним кратко сюжет рассказа. Главный герой – парикмахер «элит-класса», как теперь сказали бы (отсюда название произведение: тупейщик — парикмахер, от франц. toupet — тупей, взбитый хохол на голове), по имени Аркадий. Хотя о роде художественной деятельности своего героя автор высказывается довольно иронически («это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями, — словом, художник»[2]), его собственное художество, по сути, можно определить теми же категориями («это был не простой сатирик, банальный обличитель нравственных язв общества, но – человек с идеалами, словом, художник») . Но, будучи крепостным (как, опять же, и Лесков в самосознании, то есть в широком политическом смысле, например, весьма ограниченный грубой цензурой и прочими препонами «самовластья»), этот художник вынужден творить в неволе, по самодурству графа, давшего «обет», что тот будет прикладывать свое искусство только к его собственной особе и актрисам его крепостного театра. Этот Аркадий полюбил всей душой одну из барских служительниц Мельпомены – юную Любовь Онисимовну, которая отвечает ему взаимностью. Оба героя исполнены великодушия, целомудрия, бескорыстия, кротости, самоотверженности, таланта, внушая к себе такую симпатию, какая только возможна в художественном произведении. Мужественный Аркадий в желании свободы и простого человеческого счастья решается похитить возлюбленную, которой грозит скорое бесчестие со стороны отвратного «главного продюсера» театра, избравшего ее своей новой фавориткой.
И вот, спасаясь от погони присных этого нравственного чудовища, беглецы оказываются в доме священника, который не безвозмездно, но по заранее известному Аркадию тарифу изъявляет готовность их тотчас повенчать, а когда преследователи начинают колотить в дверь, даже прячет их в своем доме. Здесь нужно оговориться и указать на то обстоятельство, что события, описываемые в рассказе, происходили еще до рождения самого Лескова. То есть это одна из легенд «освободительного движения» (в частности, эти же исторические личности стали прототипами произведения другого отечественного классика – повести Герцена «Сорока-воровка», схожего обличительного содержания). Поэтому писатель никак не мог быть свидетелем тех подробностей, которые описывает, и они мотивированы авторским предубеждением (то есть как раз «идеями художника» Лескова). Отсюда гиперболическая подлость и низость священника, которыми его награждает сатирик. Мало того, что тот, малодушно испугавшись слуг графа, выдает им, где спрятал несчастных, так он еще и делает это жестами Иуды, вслух громко продолжая все отрицать (чтобы предаваемые слышали его преданность им и думали, что их нашли не по его наводке) и при этом еще непрерывно крестясь. То есть Лесков заставляет батюшку, во-первых, трусить самым жалким образом; во-вторых, лгать; в-третьих, лицемерить, в-четвертых, грешить любостяжанием; в-пятых, наживаться на чужой беде; в-шестых, отдавать невинно страждущих в руки палачей; и – в придачу ко всему – еще и святотатствовать, осквернять крестное знамение, с которым все это им делается. «А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо, — весь трясется перед дворецким и крестится и кричит скоренько: — Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват! А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта. <…> А поп опять замахал рукой: — Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл. А с этим все себя другою рукой по карману гладит. Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер. — Вылезай, — говорит, — соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется. – А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит. — Да, — говорит, — видно нечего делать, ваша взяла, — везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал. – А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул. Тот говорит: — Светы мои, видите еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу». – И все это только для того, чтобы изобразить «высокую идею» прислуживания Церкви безбожной самодержавной власти, их звероподобного союза для тоталитарного подавления человеческой свободы, тирании над святыми чувствами и добродетелями человеческими… По-другому, понять эту мифологию невозможно.
Беглых холопов возвращают хозяину. Сатрап сначала запланированно бесчестит свою новую одалиску, а после «ссылает» ее на скотный двор как помешавшуюся. «Аркашке», подвергнутому бичеванию (подобному тому, которое и Сам Христос претерпел от властей мира сего), оказывается барская милость – его отправляют в действующую армию в чине сержанта, дабы проявленная им отвага (которую граф как истинно благородный человек не смог не оценить) нашла себе лучшее применения и чтобы он, если будет на то царская воля, сам заслужил своими ратными подвигами вожделенную свободу.
Так и вышло. Спустя несколько лет (в продолжение которых Любе непрестанно снится рыцарь на белом коне) Аркадий возвращается в офицерском чине и благородном положении и останавливается на ночлег у знакомого дворового, откуда пишет ей письмо, более трогательное, чем письмо Татьяны – Онегину. В письме этом герой на свойственном только Лескову ангельском языке излагает свое намерение поутру выкупить ее у графа и обвенчаться, поскольку, как князь Мышкин – Настасью Филипповну, за «честную» ее «почитает», и так далее, «на разрыв аорты» (говорю это все безо всякой иронии, поскольку вообще нахожу писательское дарование Лескова на порядок выше, чем у Достоевского, что в лучших своих образцах, к каковым, безусловно, относится «Тупейный художник», производит неотразимое художественное впечатление).
Однако все это продолжает сочетаться у Лескова с религиозным вольнодумством и гностическим нигилизмом. Более того, последний даже выходит у него на новый уровень. Словно в подтверждение известной святоотеческой формулы «кому Церковь не мать, тому и Бог не Отец», метафизический протест сатирика распространяется уже на миропорядок в целом. То есть обличению несправедливостей и злодейств в отношении человека подвергается теперь не общественно-политический строй и Церковь как его составляющая, но онтологические законы самого бытия человека на земле, то есть Промысл и Провидение, в духе религиозно-философского «бунта» Ивана Карамазова. Иначе трудно понять то, что происходит в рассказе в дальнейшем (как и в большинстве других произведений Лескова, кстати).
После прочтения письма горемычная Люба и ее заступница из дворовых (сама пережившая аналогичную драму и с тех пор страдающая алкогольной зависимостью) усердно начинают молиться на святой образ о счастливом исходе предприятия великодушного Аркадия. И читатель, даже не столько по законам жанра, сколько именно по христианскому чувству (то есть по вере в благость и милостью Божью, никогда не дающего человеку креста тяжелее, чем тот способен понести; не посылающего скорбей не во врачевство греховных страстей, но разрушительных для самой души человека), предвкушает хэппи-энд, окончание всех этих тяжких мытарства и испытаний, выпавших на долю главных героев, которые они с исключительной честью и достоинством перенесли. «Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что “на воле”, за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают. — Что такое они говорили, того я, — сказывала она, — ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему: “Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?” А он отвечает: “Это, — говорит, — они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, — говорит, — горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем”»…
 Елена Соловей в роли Любови Онисимовны
Елена Соловей в роли Любови Онисимовны
Такую развязку можно было бы понять как вознесение героев на еще большую духовную высоту (хотя, повторим, они и до этого стояли практически на уровне святых-праведных, только не «Христа ради», а ради «самого добра»), то есть как именно свидетельство художественного гения писателя. Потому что там, где другой уже, наконец, сделал бы счастливую развязку, Лесков находит возможность еще поднять градус драматизма, продолжить нагнетание трагических событий, готовя, казалось бы, кульминацию и катарсис еще более мощного воздействия на читателя. Иными словами, писатель, хочется думать, сейчас сделает со своими героями то же, что Бог – со Своими «избранными», даруя достойнейшим из них – мученические венцы. Но в том-то и дело, что Лесков этого не делает. Аркадий у него погибает скорее как герой античной трагедии, бессмысленная жертва «слепой судьбы» и «мести богов», чем как исповедник Христов. А Люба находит утешение не в уповании на Бога и в молитве об упокоении усопшего, но в том же «флаконе с ядом для забвения», что и ее предшественница по горькой участи. И эта безысходность у Лескова оказывается органичным исходом его гностического нигилизма, единственно возможным финалом идеологии титанического доброделания, творения «добра ради самого добра», то есть, в конечном счете, ради религиозного самоутверждения человека, таким образом ублажающего чувство своего «божественного» достоинства.
В этом плане гораздо более выигрышным выглядит финал, придуманный И. Авербухом в его незабвенной экранизации рассказа с удивительной игрой Е. Соловей, где главная героиня предстает в образе блаженной, что нисколько не выглядит натянутым. И это прямо-таки поразительный случай для отечественного искусства в его бесплодных попытках изобразить «истинное христианство».
Александр Буздалов
Сайт «Ветрово»
27 января 2020



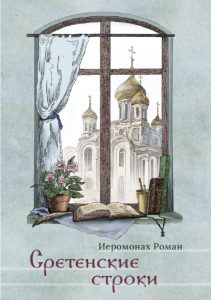




И всё же интересно, чем объясняется предубеждение Лескова против священства? Только идейными установками или всё же недостойными примерами из жизни? Может быть, как и в наше время, исключение (недостойное поведение отдельных священнослужителей) пытались подавать как правило, а собственный церковный опыт был настолько ничтожен, что противопоставить придуманному «правилу» было нечего?
Конечно, в «Тупейном художнике» образ священника — это гротеск, трудно поверить, что возможен такой иуда в священном сане. Получается, камни в священство летели до революции так же, как и в советское время. Только сначала были словесными, а потом стали вполне реальными.
Точно такие же мысли. Раньше просто интересно было читать Лескова, потом просто пропускать стала, как то отторгало у него все, что касалось Православия. А потом стала просто сравнивать с тем, что происходит сейчас. Мне кажется — что будет так же. Очень уж похоже.
Думаю, автор статьи прав: у Лескова (и не только у него) «истинное христианство» не в Церкви, а в отдельных людях, стремящихся к добру. Это очень удобная и приятная позиция для всех, кто находится вне Церкви, и даже для настоящих безбожников — им остаётся только ещё усилить эту идею, сгустить краски.
Страшно, когда священник действительно совершает недостойные поступки: это позволяет делать обобщения о священстве в целом, особенно когда перед глазами нет положительных примеров.
«…чем объясняется предубеждение Лескова против священства? Только идейными установками или всё же недостойными примерами из жизни?» (Редактор. 28.01.2020 в 10:31). Лесков не только обличал негативные примеры из жизни духовенства (а где их нет? даже среди апостолов один вор нашелся), но хулил Таинства Церкви, ее догматику и был солидарен в этом с Толстым. А в Святых Таинствах и вероучении Церкви что может быть «негативного»? Это прямая хула на Духа Святого. Это говорит о том, что это были люди другого духа (то что в Евангелии обозначается как «порождение ехиднино»). Это первично (то есть гордыня и другие смертные грехи). Затем (под эту духовную основу) сочиняется гностическая идеология («евангелие от Толстого»). И только затем уже побираются подходящие примеры под нее из жизни Церкви.
Согласен с автором. Наученные думать материалистически, а именно «бытие определяет сознание», полагают, что литература отражает жизнь. «Толстой — зеркало русской революции». Такое определение великому теоретику разрушения дал великий практик разрушения. Однако, если смотреть на жизнь церковными глазами и учиться думать идеалистически, то нужно сказать, что творчество Толстого — это не зеркало, но причина революции. Одна из причин.
Где прозвучала первая марксистская речь? В раю. В том месте, где всё есть, где не нужно ничего строить для счастливой жизни человека, поскольку всё лучшее, что он может иметь, он получил от Бога, вот там-то и обвинило творение своего Творца. Адам сказал: ЖЕНА, КОТОРУЮ ТЫ МНЕ ДАЛ, ОНА ДАЛА МНЕ ОТ ДЕРЕВА, И Я ЕЛ (Быт. 3:12). То есть жена, а вместе с ней и Ты, Давший её мне, во всём виноваты, а я здесь ни при чём.
Думать, что бытие определяет сознание — не просто глупо, но богохульно. Думать так, значит отворачиваться от Создателя в испытаниях, которые Он посылает человеку для спасения в вечности. Это значит вольно или невольно ругать Подателя жизни за жизнь, если она вдруг по каким-то причинам перестаёт нравиться твари. Чего же заслуживает тварь за материалистические мысли? И ИЗГНАЛ АДАМА, И ПОСТАВИЛ НА ВОСТОКЕ У САДА ЕДЕМСКОГО ХЕРУВИМА И ПЛАМЕННЫЙ МЕЧ ОБРАЩАЮЩИЙСЯ, ЧТОБЫ ОХРАНЯТЬ ПУТЬ К ДЕРЕВУ ЖИЗНИ (Быт. 3:24).
Отражает ли литература жизнь? Сомневаюсь, что литература, равно как и телевидение, отражает жизнь. Отразить жизнь они не могут уже потому, что жизнь — необъятна. Что же тогда отражает литература? Какую-то крохотную часть, которую выхватило сознание писателя из неохватного многообразия жизни. Поэтому лучше сказать, что литература отражает не мiр, но сознание писателя. Вернее, материальный мiр для того только и нужен писателю, чтобы с его помощью выразить духовный мир, который он носит в своей душе. Бог — Поэт, и писатель — поэт. И как мiр сотворён Словом Поэта, так литературное произведение посредством слов создаётся сознанием поэта. Поэтому литература не столько отражает жизнь, сколько направляет её, предлагая ей духовно-душевные пищу и питие, которые у неё имеются и которые в сравнении с пищей и питием, подаваемыми человеку от Бога, должны быть названы рожками (Лк. 15:16).
Скажется ли на временной и вечной жизни человека его литературный выбор? Самым решительным образом. Если некто будет каждый день читать произведения Пушкина, Гоголя, Лескова или Толстого, что с ним будет? Я думаю, что разделяющий через книги классиков духовный мир классиков окажется после смерти рядом с этими писателями. А ежедневно разделяющий через Евангелие духовный мир Евангелиста Иоанна, вероятнее всего, обретёт себя в том духовном мире, где пребывает любимый ученик Христа.
Верующие люди не могут не быть идеалистами, поскольку полагают, что Слово начальствует над всем.
«Это говорит о том, что это были люди другого духа (то что в Евангелии обозначается как «порождение ехиднино»). Это первично (то есть гордыня и другие смертные грехи). Затем (под эту духовную основу) сочиняется гностическая идеология («евангелие от Толстого»). И только затем уже побираются подходящие примеры под нее из жизни Церкви». (Буздалов A. 28.01.2020 в 14:09)
Дух движет людьми, а художниками (к тому же тупейными) тем паче. Думать же, что художник отражает какое-то явление материального мира это следствие марксистско-ленинского мировоззрения. Он, конечно, его отражает, но отражает духом, который действует в художнике. Человек предоставляет свои ум, душу, сердце — духу. И если бы только Святым Духом была исполнена земля, но вокруг нас множество духов.
Хочу мысль А. В. Буздалов о порождениях ехидны (ср. Мф. 12:34) и семени змеином (ср. Быт. 3:15) как главной причине «предубеждения» Н. С. Лескова против священства подкрепить словами В. М. Острецова из книги «Масонство, культура и русская история».
Острецов: Для идей пантеизма и атеизма (или гностицизма по Буздалову. — Г.С.), идей, лежащих в основе интеллигентной доктрины всемирной культуры и “человеческой религии”, где Мировой Дух выражает себя через всемирную секту “избранного народа”, которой может быть и отдельная нация, как у Гегеля, и все еврейство по Талмуду, или слой просвещенных жрецов всех наций, как в масонстве, — “патриотизм” и национальная оболочка, конечно, — сущая находка. Ведь для того, чтобы всемирная идея “гуманизма и человечности”, “прогресса и демократии” нашла себе дорогу ко всем людям планеты, надо говорить с каждой группой населения в зависимости от ее наклонностей, национальности, языка и культуры и даже в зависимости от степени ее развитости и возраста. Учитывается все, коль скоро идея претендует на всемирность. Но уловить идею в оболочке художественного образа, в тексте романа или повести, музыке или драме достаточно сложно. Одно дело кричать, что Бога нет, другое дело изобразить симпатичного главного героя, которого выдает полиции дьякон. (Или как в «Тупейном художнике» священник выдаёт влюблённых. — Г.С.) Одно дело говорить, что все священники были эксплуататорами, другое дело представить под именем исторически жившего русского святого какого-нибудь чувственного похотливца. (По-моему, это о творчестве Л.Н. Толстого. — Г.С.). А если при этом вы еще изобразите Куликову битву в патетических красках и скажите пару прочувственных слов о Великой Руси и ее замечательном народе, да еще и проведете удачно мысль о врожденной революционности русских, и как бы намекнете, что Куликова битва есть только пролог к Октябрьской революции, а освобождение от татар есть лишь прообраз освобождения от помещиков и царя, то вам цены нет! (А вот здесь не могу сказать, о каком писателе речь, поскольку Пикуля и других исторических романистов не читал. — Г.С.). И читатель проглотит под фразами о величии народа и о князе Дмитрии все, что вам нужно. Примерно по этому рецепту зачастую и пекутся романы и повести “патриотического” содержания. Так они пеклись и “Нашим Современником”. Пекутся, надо полагать, и теперь в той или иной форме. Подозреваю, что даже и в форме разоблачения жидо-масонов, и в форме борьбы с сионизмом. Это все темы проходные, в смысле открытия канала доверия у читателя, через который легко вводятся в сознание или чаще подсознания глубинные идеи, формирующие саму матрицу сознания и тип мышления, и именно в духе масонства и иудаизма.
Все верно, о. Георгий. Каббала, масонство, гегельянство и русская религиозная философия с ее национал-мессианством — это превращения одной неогностической идеологии. Тот же Достоевский — это обыкновенный неогегельянец, которых тогда по Европе были тьмы.