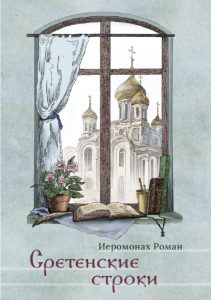Окончание, часть первая

Кадр из фильма «Братья Карамазовы» («Мосфильм», 1968 г., реж. И. Пырьев; в роли Ивана Карамазова и его Гостя – К. Лавров)
…В следующем романе Достоевского («Бесы») «бесами» являются сами радикалы революционной секты Петра Верховенского (прототип – нечаевцы и петрашевцы), и никаких реальных демонов (падших духов, инспирирующих самые деструктивные действия людей) за ними (или в них) у Достоевского не предполагается. То есть «бес» здесь – это просто нравственно и идеологически переродившийся человек, не более того. В черновых набросках к роману писатель почти буквально повторяет свои теогонические формулы шестидесятых годов. «Мы, очевидно, существа переходные, и существование наше на земле есть, очевидно, беспрерывное существование куколки, переходящей в бабочку. <…> Я думаю, люди становятся бесами или ангелами.<…> точно так же, как и на земле все исходит одно из другого». «Стало быть, несчастья – единственно от ненормальности, от несоблюдения закона [Христа] <…> Уклонения ужасно могут быть разнообразны, но все зависят от недостатка самообладания» (Бесы. Подготовительные материалы / Д.,XI,184; 121-122). Соответственно, развитие «самообладания» – это единственное средство исполнения «закона Христа», он же – «закон человеческой природы», она же – «натура Бога». «…бог и царство небесное внутри нас, в самообладании, и свобода тут же» (там же; с.131).
Взятый эпиграфом к роману евангельский эпизод о гадаринском бесноватом и изгнании из него Христом легиона бесов в стадо свиней (Мк. 5:1-20) в почвеннической идеологии Достоевского означает все ту же аллегорию «переходного» периода, в частности, современного писателю периода истории России, блуждания общественного сознания в эпоху реформ и т.д. «Бесы» здесь – это идеи нигилизма и западничества, ростовщичества и социализма, которыми в различной степени одержима общественная мысль и вообще русский народ. Но в народе рано или поздно возобладает природно присущее ему «христианское начало» («русский Бог», русский народный «Христос») и изгонит из самого себя все эти чуждые ему «бесовские» убеждения и порождаемые ими страсти. «Свиное стадо», соответственно, это наиболее сильно подвергшиеся наваждению этих идей экстремистские движения вроде нечаевцев, которые должны погибнуть, дабы Целое (Русский Народ, Россия) исцелилось, сбросив с себя этот балласт в Лету исторического прошлого. «Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века» (Бесы. Ч.3, гл.7, II / Д.,Х,499).
* * *
Наконец, «чёрт» Ивана в «Братьях Карамазовых» есть скорее «темная сторона», или альтер эго самого Ивана, чем в самом деле явившийся человеку дух искуситель. «Ты – воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых» (Братья Карамазовы. Кн.11, гл.IX / Д.,XV,72). На первый взгляд, может показаться, что атеизм Ивана (неверие ни в Бога, ни в дьявола) – это и есть то, что Достоевский пытается опровергнуть, и это отчасти так и есть на самом деле. Только делается это не ради истин ортодоксального Христианства, или не с позиций традиционной веры Церкви, но с позиций все того же почвеннического неогностицизма. «Мой герой, конечно, видит и галлюсинации, но смешивает их с своими кошмарами. Тут не только физическая (болезненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти с каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, совпадающая с характером героя: отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. Мучимый безверием, он (бессознательно) желает в то же время, чтоб призрак был не фантазия, а нечто в самом деле» (Любимову Н.А. 10.08.1880 / Д.,XXX(1),205). Иными словами, здесь мы имеем дело с той «жаждой верить» в истины Церкви (в том числе – в существование бесов) самого Достоевского, о которой он писал еще в письме Н.Д. Фонвизиной из ссылки (январь-февраль 1854 / Д.,XXVIII(1),176) и о которой не без бахвальства напишет в одном из самых последних своих текстов: «Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт» (Дневник писателя. 1881, март. Подготовительные материалы / Д.,XVII,86). Стало быть, полной уверенности в том, что здесь является реальностью, а что – галлюцинацией воспаленного сознания, не было и у самого автора, мучимого тем же сомнением, что и его герой. Неортодоксальность изображения (все тот же антропоморфизм) даже этого темного духа у писателя (приближенного к церковному учению о демонах настолько, насколько основные принципы почвеннического гностицизма позволили это сделать без ущерба для себя) в каком-то смысле даже ярче демонстрирует подспудное неверие писателя, чем прямое отрицание существования демонов.
Сполна убеждает в этом свидетельство из другого письма Достоевского: «Вас, особенно как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, что этот человек (Ив. Карамазов) при данных обстоятельствах никакой иной галлюсинации не мог видеть, кроме этой. Я эту главу хочу впоследствии, в будущем “Дневнике”, разъяснить сам критически» (Благонравову А.Ф. 19. 12.1880 / Д.,ХХХ(1),236-237). Сравнив эти два письма (Любимову и Благонравову), мы видим, что оценка кошмара Ивана за несколько месяцев претерпела у Достоевского существенное изменение. А именно, если в первом – он допускал смешение переживаний реального мистического опыта («реальность призрака») и галлюцинации больного, то во втором – речь уже идет только о душевной патологии и вызванных ею галлюцинациях. Это и означает, что «демон сомнения» (то есть обыкновенный скепсис падшего человеческого ума), «водивший между верой и безверием» (Братья Карамазовы. Кн.11, гл.IX / Д.,XV,80) «одного страдающего неверием атеиста» (Вступительное слово… перед чтением главы «Великий Инквизитор» / Д.,XV,198) уже успел довести другого «страдающего» гностика до неверия даже в своих собственных (гностических) «демонов».
Как полемика славянофилов с западниками не выходила за пределы общеевропейской полемики романтизма и либерализма, так и борьба почвенничества с нигилизмом и атеизмом была мотивирована религиозным вольнодумством как нигилизмом более «высокого порядка». В частности, «человекобожию» либерализма и революционного социализма, к которому эти системы тяготеют (и в чем критика писателя этих систем справедлива и проницательна) Достоевский противопоставлял отнюдь не церковную догматику, но свои почвеннические «идеалы», то есть все ту же романтическую религию самоспасения, что, с точки зрения учения Церкви, было лишь иной формой того же самого антропотеизма Нового времени (таковым, в частности, является центральное в религиозной системе Достоевского учение о «достижении всем человечеством» путем «нравственного самосовершенствования» состояния «Христа», или «натуры Бога»). Такова мера лжи реальных демонов, которые одним гностикам внушают атеизм, а другим – ересь, чтобы последние тщетно боролись этим негодным средством с атеизмом.
Даже если допустить, что в некоторые «минуты веры» (Фонвизиной Н.Д. Январь-февраль 1854 / Д.,XXVIII(1),176), которые все-таки случались в «горниле сомнений» Достоевского (в которых должен был родиться алхимический «Христос» гностицизма), он действительно верил в реальность бесов, тот факт, что он при этом проповедовал конечное торжество над ними воли человека (как бы то, что блж. Августин в антипелагианской полемике называл «даром пребывания в добре»), опять-таки, хуже всякого атеизма по своему зловерию. Поскольку в Христианстве человек сам (без благодати Божьей) не может победить даже собственные греховные страсти (о чем можно узнать из любой православной молитвы), тогда как идея о том, что человек способен духовно одолеть бесовские силы вообще является верным признаком бесовской прелести, то есть безысходной рабской зависимости от этих сил. «Если демоны будут склонять сердце твое к подвигу, превышающему силы твои, то не послушай их. Они разгорячают человека на всякое дело, которого он не может исполнить, — и он впадает в руки их; они радуются, обманув и уловив его» (св. Исайя Отшельник. Слово 4 / Собр. твор. святителя Игнатия Брянчанинова. М., «Паломник», 2004. Т.6. С.148).
* * *
В заключение еще раз укажем на исторические истоки всех этих идей у Достоевского.
Представление о божественной природе демонов вообще и Люцифера (сатаны, высшего Демиурга) – особенно – является одной из основных «эзотерических тайн» теософии, масонства и каббалы. «Когда смысл аллегории объяснен, ясно, что Сатана и его восставшее воинство отказались создать физического человека, лишь чтобы стать непосредственными спасителями и создателями божественного Человека. <…> Так “Сатана”, когда его перестают рассматривать в суеверном, догматическом и, лишенном истинной философии, духе церквей, вырастает в величественный образ того, кто создает из земного – божественного Человека; кто дает ему, на протяжении долгого цикла Махакальпы, закон Духа Жизни и освобождает его от Греха Неведения, следовательно, от Смерти» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Кн.1, ч.1. Цит. по изд.: М., «АСТ», 2005). «Люцифер или “Светоносец” находится в нас; это наш Ум, наш Искуситель и Искупитель, наш разумный Освободитель и Спаситель от чистого анимализма. Без этого принципа – эманации самой сущности чистого божественного Махата (Разума), излучающегося непосредственно от Божественного Разума, – мы несомненно были бы не лучше животных» (там же; кн.2, ч.2).
Эта же самая, по своей сути, идея в завуалированном виде проповедуется и в философии всеединства и религиозном романтизме, откуда и заимствуется отечественными «любомудрами» почвенничества и славянофильства. «Одна сторона, согласно которой точка зрения раздвоения [сознания, божественного разума] не должна остаться, выражена в том, что совершено преступление, нечто, чего не должно быть, что не должно оставаться. Так, в Библии сказано, что змий своей ложью соблазнил человека. Здесь высокомерие свободы есть та точка зрения, которой не должно быть. Другая сторона, согласно которой эта точка зрения должна быть, поскольку в ней содержится источник исцеления, выражена в словах бога: “Смотри! Адам стал, как один из нас”. Следовательно, это не лживое заверение змия, бог подтверждает истину его слов. Этого, однако, обычно не замечают, об этом не говорят» (Гегель Г. Философия религии. М., Мысль», 1976. С.423). «На вопрос же “Откуда зло?” ответ гласит: оно происходит из идеальной природы твари, в той мере, в которой она зависит не от воли Бога, а от вечных истин, содержащихся в божественном разуме <…> различение разума и воли как двух начал в Боге, благодаря чему первичная возможность зла становится независимой от божественной воли, и соответствует глубокому мышлению Лейбница и хотя представление о разуме (о божественной мудрости) как о чем-то, где Бог выступает скорее как страдательный, нежели деятельный, и указывает на нечто более глубокое, однако зло, которое может происходить из этой чисто идеальной основы, вновь сводится к чему-то только пассивному, к ограничению, недостатку, лишению — к понятиям, полностью противоречащим подлинной природе зла. Ведь уже одно то, что к злу способен только человек — совершеннейшее из всех зримых созданий, может служит доводом в пользу того, что основа зла никак не может состоять в недостаточности или лишении. Дьявол был, по христианскому воззрению, не наиболее ограниченным, но, напротив, самым неограниченным из всех созданий. Несовершенство в общем метафизическом смысле не есть обычное свойство зла, ибо оно часто выступает в соединении с таким совершенством отдельных сил, которое значительно реже сочетается с добром. Следовательно, основа зла должна находиться не только в некоем положительном вообще, но скорее в высшем положительном, содержащемся в природе, что и соответствует нашему воззрению…» (Шеллинг Ф. Философское исследование о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметах / Шеллинг Ф. Сочинения в 2 т. М., «Мысль», 1980. Т.2. С.115-116).
Здесь же мы находим источник гностической концепции демона как аллегории «падшего человека» или его страстей (то есть, во все той же инволюционной цепи «Бог-человек-демон»). «Притча отличается от басни, где действуют звери, и от мифа, где выступают демоны или аллегорические существа, тем, что здесь действующими лицами являются люди» (Гегель Г. Философия религии. Цит. изд. Т.1. С.53). «Знамение могло бы потрясти вас, но оно не способно восстановить утерянную вами [божественную, абсолютную] природу. Эвмениды вашей сущности могли бы быть вспугнуты, но пустота, оставленная изгнанными демонами, уже не наполнится любовью; она вновь притянет ваших фурий, а они, обретя новые силы в самом вашем сознании того, что они действительно адские фурии, завершат вашу гибель» (там же; с.167). «Один французский философ [Кондильяк] говорит: “С момента грехопадения мы перестали созерцать вещи сами по себе”. Для того чтобы это высказывание имело разумный смысл, его автор должен был бы мыслить грехопадение в платоновском смысле, как выход из абсолютного состояния. Однако в этом случае ему следовало бы скорее утверждать обратное: с тех пор, как мы перестали созерцать вещи сами по себе, мы превратились в падшие существа» (Шеллинг Ф. Философские письма о догматизме и критицизме. Письмо восьмое / Шеллинг Ф. Сочинения в 2 т. Цит. изд. Т.1. С.74-75).
Александр Буздалов
Сайт «Ветрово»
26 мая 2020