Первая часть статьи «Пушкин и Белинский»
Поэт и критик Аполлон Григорьев проговорился однажды, что «Пушкин – это наше всё». С тех пор мы горделиво вторим тому, забывая: «всё» – это не только слава, гений, душевный подъем, поэтический восторг, полнота эмоций, стремление к свету, постижение истины, идеал гармонического восприятия мира, но и – падения, тяжкая греховность, трагическое ощущение безысходности бытия, утрата смысла жизни, тяжкая внутренняя борьба и нередкие поражения в ней. В этом «всё» и смешано всё: и хорошее и дурное, и светлое и темное. Вопрос только в том, чего из них больше и к чему направлены душевные стремления? Недавние публикации и переиздания классиков критики дают немало существенных материалов к истории оценки Пушкина революционно – материалистической критикой 50 – 60 –х гг XIX века. Статьи Писарева о Пушкине и о Белинском явились следствием его понимания расстановки общественных и тактических задач «мыслящих реалистов» в России второй половины 60 х гг.
Предлагаем читателям сайта две статьи русского критика Д. И. Писарева, объединенные общим названием «Пушкин и Белинский» (1865 г.) Статьи представляют собой полемику с Белинским и дают резко полемическую оценку творчества поэта. Критик «встряхнул» пушкинское наследие, предлагая свои заключения.
Еще в 1864 г. в статье «Реалисты» Писарев сформулировал замысел будущей работы: «Одна из важнейших задач современного реализма заключается в том, чтобы русский человек сам принужден был смеяться над своими возвеличенными пигмеями». Писарев сознательно уходит от принципа историзма в оценке поэта. Он ограничивается лишь вопросом: «Следует ли нам читать Пушкина?» И отвечает на него отрицательно. Основной тезис – отношение Пушкина к изображаемым явлениям так пристрастно, его понятия о потребностях и о нравственных понятиях человека смутны и неправильны. Весь «Евгений Онегин» — не что иное, как яркий пример бессмысленного существования. Онегин, по мнению критика, скучает не от отсутствия сферы деятельности, а от развратившей его волю праздности. «Евгений Онегин», считает Писарев, не энциклопедия русской жизни, так как в нем обойден главный вопрос времени – крепостное право. Еще в меньшей степени выдерживает критику пушкинская лирика, таящая под поэтической завесой незначительное, а то и пошлое значение. Писарев отождествляет Евгения Онегина с самим Пушкиным и свою оценку Онегина переносит на поэта.
М. М. Дунаев в своей книге «Вера в горниле сомнений» пишет: «Проблема смысла земного бытия есть проблема исключительно религиозная, и решение ее может быть дано лишь на высшем духовном уровне. Всякий носитель атеистического сознания не может не прийти к трагическому выводу, что жизнь его бессмысленна. Ибо представляет собой случайный результат слепой игры бездушных и бездумных стихий. Цель может быть лишь у создания, одухотворенного неким Высшим Началом, осмысленного Высшим Разумом. Что есть это Начало, этот Разум – проблема нашей веры. Православие дает свой ответ на поставленный вопрос. И православные люди признают для себя такой ответ единственно истинным. Только религия может дать ответ на важнейший вопрос всякого разумного существа: зачем я живу в этом мире, какова цель моего существования. Залогом же счастья в этом мире может стать лишь вера и спасение для мира Горнего, иначе все бесцельно и безнадежно. Обретет ли эту надежду главный герой романа? По отношению к нему вопрос бессодержателен. Вопрос можно ставить иначе: обрел ли то автор».
И в заключение хотелось бы процитировать слова иеромонаха Романа: «„Пушкин наше всё!“ Дюже громко! Остерегусь так сказать и о великом печальнике земли Русской преподобном Сергии, дабы не лишить чести благоверного князя Александра Невского, преподобного Нила Сорского, преподобного Александра Свирского — велий сонм русских святых. ХРИСТОС наше ВСЁ!»
Галина Пашук, учитель русского языка и литературы
I
 «Онегин, — говорит Белинский, — есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотой, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение — значит оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности» (Соч. Белинского, т. VIII, стр. 509). Действительно, «Онегин» серьезнее всех произведений Пушкина; в этом романе поэт становится лицом к лицу с современной действительностью, старается вдуматься в нее как можно глубже и, по крайней мере, не истощает своей фантазии в эффектных, но совершенно бесплодных изображениях младых черкешенок, влюбленных ханов, высоконравственных цыган и неправдоподобно гнусных изменников, которые «неведают святыни и не помнят благостыни».
«Онегин, — говорит Белинский, — есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотой, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение — значит оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности» (Соч. Белинского, т. VIII, стр. 509). Действительно, «Онегин» серьезнее всех произведений Пушкина; в этом романе поэт становится лицом к лицу с современной действительностью, старается вдуматься в нее как можно глубже и, по крайней мере, не истощает своей фантазии в эффектных, но совершенно бесплодных изображениях младых черкешенок, влюбленных ханов, высоконравственных цыган и неправдоподобно гнусных изменников, которые «неведают святыни и не помнят благостыни».
Если творческая деятельность Пушкина дает какие-нибудь ответы на те вопросы, которые ставит действительная жизнь, то, без сомнения, этих ответов мы должны искать в «Евгении Онегине». К разбору «Онегина» Белинский приступал с благоговением и, как он сам сознается, не без некоторой робости. Об «Онегине» Белинский написал две большие статьи; он говорит, что «эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение» и что «в ней Пушкин является представителем пробудившегося общественного самосознания».
Посмотрим, насколько самый роман оправдывает и объясняет собою все эти восторги нашего гениального критика. Прежде всего надо решить вопрос: что за человек сам Евгений Онегин? Белинский определяет Онегина так: «Онегин — добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, что ему надо, чего ему хочется; но он знает и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность» (стр. 546, 547). Сам Пушкин относится к своему герою с уважением и любовью:
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий охлажденный ум.
Я был озлоблен, он — угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас,
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней.
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал, но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И к злости мрачных эпиграмм.
Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою,
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.
(Глава I. Строфы XLV, XLVI, XLVII.)
В этом отрывке Пушкин постоянно употребляет такие эластические слова, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла и в которые вследствие этого каждый читатель может втиснуть какой угодно смысл. Человек обладает резким охлажденным умом, знает игру страстей, он жил, мыслил и чувствовал; в нем погас жар сердца; его томит жизнь; его ожидает злоба людей и слепой Фортуны — все эти слова могут быть приложены к какому-нибудь очень крупному человеку, к замечательному мыслителю, даже к историческому деятелю, который старался вразумить людей и которого не поняли, осмеяли или прокляли тупоумные современники. Обманутый хорошими эластическими словами, теми самыми, в которые он сам, мыслитель и деятель, привык вкладывать живую душу, — Белинский посмотрел на Онегина благосклонно и смело выдвинул его из бесчисленной толпы недюжинных личностей. Но мне кажется, что Белинский ошибся. Он поверил с л о в а м и забыл то обстоятельство, что люди очень часто произносят хорошие слова, не отдавая себе ясного отчета в их значении или, по крайней мере, придавая этим словам узкий, односторонний и нищенский смысл. В самом деле, попробуем задать себе вопросы: ч е м же охлажден ум Онегина? К а к у ю игру страстей он испытал? На ч т о тратил и истратил он жар своего сердца? Ч т о подразумевает он под словом ж и з н ь, когда он говорит себе и другим, что жизнь томит его? Что значит, на языке Пушкина и Онегина, ж и т ь, мыслить и чувствовать?
Ответа на все эти вопросы мы должны искать в описании тех занятий, которым предавался Онегин с самой ранней молодости и которые, наконец, вогнали его в хандру. В первой главе, начиная с XV до XXXVII строфы, Пушкин описывает целый день Онегина с той минуты, когда он просыпается утром, до той минуты, когда он ложится спать, тоже утром. Лежа еще в постели, Онегин получает три приглашения на вечер; он одевается и в утреннем уборе едет на бульвар и гуляет там до тех пор,
Не прозвонит ему обед.
Он едет обедать в ресторан Талона, и так как дело происходит зимой, то, при сем удобном случае, его бобровый воротник серебрится морозной пылью; и это достопамятное обстоятельство дает Белинскому повод заметить, что Пушкин обладает удивительной способностью «делать поэтическими самые прозаические предметы» (стр. 387).
Если бы Белинский дожил до наших времен, то он принужден был бы сознаться, что некоторые художники далеко превзошли великого Пушкина даже в этой удивительной и специально художественной способности. Наши великие живописцы, господа Зарянко и Тютрюмов воспевают бобровые воротники красками и воспевают их так неподражаемо хорошо, что каждый отдельный волосок превращается в поэтическую картину и в перл создания. Увидев великие произведения этих великих живописцев, Белинский был бы поставлен в трагическую альтернативу. Ему пришлось бы или преклониться перед творческим величием господ Зарянки и Тютрюмова, или отречься от тех эстетических понятий, которые видят заслугу поэта в его удивительной способности воспевать бобровые воротники. Воспев бобровый воротник, Пушкин воспевает все кушанья того обеда, которым занимается Онегин у Талона. Обед недурен: тут появляются окровавленный ростбиф, трюфели, которые Пушкин называет почему-то роскошью юных лет, нетленный пирог Страсбурга, живой лимбургский сыр, золотой ананас и котлеты, очень горячие, очень жирные и возбуждающие жажду, которая утоляется шампанским. В каком порядке эти поэтические предметы следуют один за другим, этого Пушкин нам, к сожалению, не объясняет, и прямая обязанность наших антиквариев и библиофилов состоит в том, чтобы пополнить этот важный пробел посредством тщательных исследований. Когда обед еще не докончен, когда горячий жир котлет не недостаточно залит волнами шампанского (какого именно шампанского? — это тоже весьма интересный вопрос для усердных комментаторов), звон брегета доносит обедающим, что начался новый балет. Как злой законодатель театра, как непостоянный обожатель очаровательных актрис (об актрисах, разумеется, нечего напоминать комментаторам: они, разумеется; всех их знают по имени, по отчеству, по фамилии и по самым подробным формулярным спискам) и как почетный гражданин кулис, Онегин летит в балет. (Здесь я с ужасом вспоминаю, что мы решительно не знаем, какой масти была лошадь Онегина, и что эту великую тайну по всей вероятности не раскроют нам никакие исследования комментаторов.) Войдя в театральную залу, Онегин начинает обнаруживать охлажденность своего ума; окинув взором все ярусы, он, по словам Пушкина, все видел и остался ужасно недоволен лицами и убором; потом, раскланявшись с мужчинами, взглянул на сцену в большом рассеянии, потом даже отворотился и зевнул, и молвил:
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел.
Приведя это суровое антибалетное восклицание разочарованного Онегина, Пушкин сам почувствовал, что он ставит своего героя в довольно смешное положение, потому что люди, действительно обладающие резким и охлажденным умом, не станут тратить своей иронии на отрицание балетмейстера Дидло и дамских уборов. Почувствовав смешное положение Онегина, Пушкин приделал к XXI строфе следующее юмористическое примечание: «Черта охлажденного чувства, достойная Чайльд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». Этим примечанием Пушкин, очевидно, хотел показать, что он сам подтрунивает над бутадой Онегина и не принимает этой бутады за симптом серьезной разочарованности. Но примечание это производит очень слабое впечатление на внимательного и недоверчивого читателя; такой читатель видит, что, кроме забавных бутад, резкий и охлажденный ум Онегина не порождает ровно ничего. В XXI строфе I главы Онегин отрицает балеты Дидло, а в IV и в V строфах III главы Онегин отрицает брусничную воду, красоту Ольги Лариной, глупую луну и глупый небосклон. И этими немногими, весьма невинными выходками и исчерпывается до самого дна та злость мрачных эпиграмм, которою угрожал нам Пушкин в XLVI строфе I главы. Злее и мрачнее этих эпиграмм мы от Онегина ничего не услышим до самого конца романа. Если все эпиграммы Онегина были так же мрачны и так же злы, то не мудрено, что Пушкин привык к ним очень скоро.
Продолжая проявлять свою разочарованность, Онегин уезжает из театра в то время, когда амуры, черти и змеи еще скачут и шумят на сцене. Не интересуясь их скаканием и шумением, он едет домой, переодевается для бала и отправляется танцовать до утра. В то время, когда Онегин переодевается, Пушкин превращает в поэтические предметы те гребенки, пилочки, ножницы и щетки, которые украшают кабинет «философа в осьмнадцать лет». Философом юный Онегин оказался, вероятно, именно потому, что у него очень много гребенок, пилочек, ножниц и щеток; но и сам Пушкин по части философии не желает отставать от Онегина и вследствие этого высказывает весьма категорически ту философскую истину, любезную Павлу Кирсанову, что можно быть дельным человеком и думать о красоте ногтей. Эту великую истину Пушкин поддерживает другой истиной, еще более великой. «К чему, — спрашивает он, — бесплодно спорить с веком?» Так как XIX век, очевидно, направляет все свои усилия к тому, чтобы превратить ногти в поэтические предметы, то, разумеется, относиться равнодушно к красоте ногтей — значит быть ретроградом и обскурантом… «Обычай, — продолжает философ Пушкин, — деспот меж людей». Ну, разумеется, и притом обычай всегда останется деспотом меж таких философов, как Онегин и Пушкин. К сожалению, число таких драгоценных мыслителей понемногу начинает убывать. Пушкин насказал бы нам еще много философских истин, но Онегин уже оделся, уподобился ветреной Венере, надевшей мужской наряд, и в ямской карете поскакал стремглав (вероятно, вследствие охлажденности ума) на бал. Пушкин, разумеется, спешит за ним, и поток философских истин на несколько времени иссякает. На бале мы совершенно теряем из виду Онегина и решительно не знаем, в чем выразилось его несомненное превосходство над презренной толпой. Введя своего героя в бальную залу, Пушкин весь предается воспоминаниям о ножках и рассказывает с неподражаемым увлечением, как он однажды завидовал волнам, «бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам». Недоверчивый читатель, быть может, усомнится в том, чтобы волны действительно ложились к ее ногам с л ю б о в ь ю, но я отвечу такому неотесанному читателю, что прозаические волны превращены здесь в поэтические предметы и что поэтому со стороны поэта даже очень похвально приписать им, для, пущей поэтичности, любовь к женщине вообще или к ее ногам в особенности. Что же касается до завидования неодушевленному предмету, придающемуся или приближающемуся к красивой женщине так или иначе, то я надеюсь, что против этого даже самый неотесанный читатель не осмелится представить никакого скептического возражения, потому что этот мотив выяснен и разработан до последней тонкости глубокомысленным и изящным романсом: «Ах, зачем я не бревно»[1], — романсом, достаточно известным не только грамотной, но даже и безграмотной России. Объяснив читателям, что милые ноги привлекали его сильнее и даже несравненно сильнее, чем уста, ланиты и перси, Пушкин вспоминает о своем Онегине, везет его с бала домой и укладывает в постель в то время, когда рабочий Петербург уже начинает просыпаться. Когда Онегин встает от сна, тогда начинается опять та же история: гулянье, обед, театр, переодеванье, бал и сон.
II
Итак, Онегин ест, пьет, критикует балеты, танцует целые ночи напролет, — словом, ведет очень веселую жизнь. Преобладающим интересом в этой веселой жизни является «наука страсти нежной», которою Онегин занимается с величайшим усердием и с блестящим успехом. «Но был ли счастлив мой Евгений?» — спрашивает Пушкин. Оказывается, что Евгений не был счастлив, и из этого последнего обстоятельства Пушкин выводит заключение, что Евгений стоял выше пошлой, презренной и самодовольной толпы. С этим заключением соглашается, как мы видели выше, Белинский; но я, к крайнему моему сожалению, принужден здесь противоречить как нашему величайшему поэту, так и нашему величайшему критику. Скука Онегина не имеет ничего общего с недовольством жизнью; в этой скуке нельзя подметить даже инстинктивного протеста против тех неудобных форм и отношений, с которыми мирится и уживается по привычке и по силе инерции пассивное большинство. Эта скука есть не что иное, как простое физиологическое последствие очень беспорядочной жизни. Эта скука есть видоизменение того чувства, которое немцы называют Katzenjammer и которое обыкновенно посещает каждого кутилу на другой день после хорошей попойки. Человек так устроен от природы, что он не может постоянно обжираться, упиваться и изучать «науку страсти нежной». Самый крепкий организм надламывается или, по крайней мере, истаскивается и утомляется, когда он чересчур роскошно пользуется разнообразными дарами природы. Всякое наслаждение притупляет в большей или меньшей степени, на более или менее долгое время, ту способность нашего организма, которая воспринимает это наслаждение. Если отдельные приемы наслаждения быстро следуют один за другим и если эти приемы очень сильны, то наша способность наслаждаться совершенно притупляется, и мы говорим, что нам надоело или опротивело то или другое приятное занятие. Это притупление одной из наших способностей совершается помимо всяких умственных соображений и совершенно независимо от каких бы то ни было критических взглядов на то занятие, которое мы прежде любили и к которому мы потом охладели.
Представьте себе, что вы очень любите какое-нибудь питательное и здоровое кушанье, например, пудинг; в один прекрасный день это любимое ваше кушанье изготовлено особенно хорошо; вы объедаетесь им и сильно расстраиваете себе желудок; после этого легко может случиться, что вы получите к пудингу непобедимое отвращение, которое, разумеется, будет совершенно независимо от ваших теоретических понятий о пудинге; вы знаете очень хорошо весь состав пудинга; вы знаете, что в него не кладут никаких ядовитых веществ; вы видите, что другие люди при вас едят его с удовольствием, и при всем том вам, прежнему любителю пудинга, это кушанье не идет в горло.
Отношения Онегина к различным удовольствиям светской дани похожи, как две капли воды, на ваши отношения пудингу. Онегин всем объелся, и его от всего тошнит. Если не всех светских людей тошнит так, как Онегина, то это происходит единственно оттого, что не всем удается объесться. Как специалист в «науке страсти нежной», Онегин, разумеется, стоит выше многих своих сверстников. Он красив собою, ловок, il a la langue bien pendue {Он красноречив (буквально: у него хорошо подвешен язык). Ред.}, как говорят французы, и в этих особенностях его личности заключается вся тайна его разочарованности и его мнимого превосходства над презренной толпой. Другие светские люди, ведущие вместе с Онегиным пустую и веселую жизнь, совсем не одерживают побед над светскими женщинами или одерживают этих побед очень немного, так что не успевают притупить своего чувства с этой стороны. «Наука страсти нежной» продолжает быть для них привлекательной, потому что они встречают в ней серьезные трудности, которые они желают и надеются преодолеть. Для Онегина эти трудности не существуют; он наслаждается тем, к чему другие только стремятся, и вследствие неумеренного наслаждения он притупляет в себе вкус и влечение ко всему, что составляет содержание светской жизни.
До сих пор превосходство Онегина заключается только в том, что он лучше многих других умел «тревожить сердца кокеток записных». Легко может быть, что Пушкин любит и уважает своего героя именно за эту особенность его личности. Но кто имеет понятие о Белинском, тот, конечно, знает, что Белинский не мог бы относиться к Онегину с сочувствием, если бы видел в нем только искусного соблазнителя записных кокеток.
Итак, посмотрим, что будет дальше; посмотрим, за какое средство ухватится объевшийся Онегин, чтобы победить свой Katzenjammer и чтобы снова помириться с жизнью. Когда человеку надоело наслаждение и когда этот человек в то же время чувствует себя молодым и сильным, тогда он непременно начинает искать себе труда. Для него наступает пора тяжелого раздумья, он всматривается в самого себя, всматривается в общество; он взвешивает качество и количество своих собственных сил; он оценивает свойства тех препятствий, с которыми ему придется бороться, и тех общественных потребностей, которые стоят на очереди и ожидают себе удовлетворения. Наконец, из его раздумья выходит какое-нибудь решение, и он начинает действовать; жизнь ломает по-своему его теоретические выкладки; жизнь старается обезличить его самого и переработать по общей, казенной мерке весь строй его убеждений; он упорно борется за свою умственную и нравственную самостоятельность; и в этой неизбежной борьбе обнаруживаются размеры его личных сил. Когда человек прошел через эту школу размышления и житейской борьбы, тогда мы имеем возможность поставить вопрос: возвышается ли этот человек над безличной и пассивной массой или не возвышается? Но пока человек не побывал в этой переделке, до тех пор он в умственном и нравственном отношении составляет для нас такую же неизвестную величину, какую мы видим, например, в грудном ребенке. Если же человек, утомленный наслаждением, не умеет даже попасть в школу раздумья и житейской борьбы, то мы тут уже прямо можем сказать, что этот эмбрион, никогда не сделается мыслящим существом и, следовательно, никогда не будет иметь законного основания смотреть с презрением на пассивную массу. К числу этих вечных и безнадежных эмбрионов принадлежит и Онегин.
Онегин дома заперся,
Зевая за перо взялся, —
Хотел писать, но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его.
(Глава I. Строфа XLIII.)
Шляться в течение нескольких лет по ресторанам и по балетам, потом вдруг, ни с того, ни с сего, усесться за письменный стол и взять перо в руки, с тем чтобы сделаться писателем, — это фантазия по меньшей мере очень странная. Браться за перо зевая и в то же время ожидать, что перо напишет что-нибудь мало-мальски сносное, — это также нисколько не остроумно. Наконец, отвращение Онегина к упорному труду, — отвращение, которое так откровенно, признает сам Пушкин, — составляет симптом очень печальный, по которому мы уже заранее имеем право предугадывать, что Онегин навсегда останется эмбрионом. Но не будем торопиться в произнесении окончательного приговора. Когда человек входит в новую фазу жизни, тогда он поневоле идет ощупью, берется за непривычное дело очень неискусно, переходит от одной ошибки к другой, испытывает множество неудач и только посредством этих ошибок и неудач выучивается понемногу работать над теми вопросами, которые настоятельно требуют от него разрешения.
Онегин увидал, что он не может быть писателем и что сделаться писателем гораздо труднее, чем пообедать у Талона. Эта крошечная частица житейской опытности, вынесенная им из первого столкновения с вопросом о труде, по-видимому, не пропала для него даром. По крайней мере, вторая попытка его оказывается гораздо благоразумнее первой.
Томясь душевной пустотой,
Уселся он с похвальной целью
Себе усвоить ум чужой.
(Строфа XLIV.)
Значит, начал читать. Это придумано недурно. Но именно эта удачная, хотя и очень простая выдумка тотчас раскрывает перед нами ту истину, что Онегин — человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный.
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман и бред,
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку с пыльной их семьей
Задернул траурной тафтой.
(Строфа XLIV.)
Если бы Онегин расправился так бойко с одними русскими книгами, то в словах поэта можно было бы видеть злую, но справедливую сатиру на нашу тогдашнюю вялую и ничтожную литературу. Но, к сожалению, мы знаем доподлинно, из других мест романа, что Онегин умел читать всякие книжки, и французские, и немецкие (Гердера), и английские (Гиббона и Байрона), и даже итальянские (Манзони). В его распоряжении находилась вся европейская литература XVIII века, а он сумел только задернуть полку с книгами траурной тафтой. Пушкин, по-видимому, желал показать, что проницательный ум и неукротимый дух Онегина ничем не могут удовлетвориться и ищут такого совершенства, которого даже и на свете не бывает. Но показал он совсем не то. Он показал одно из двух: или то, что Онегин не умел себе выбрать хороших книг, или то, что Онегин не умел оценить и полюбить тех мыслителей, с которыми он познакомился. По всей вероятности, Онегина постигли обе эти неудачи, то есть и выбор книг был неудовлетворителен, и понимание было из рук вон плохо. Онегин, вероятно, накупил себе всякой всячины, начал глотать одну книгу за другой без цели, без системы, без руководящей идеи, почти ничего не понял, почти ничего не запомнил и бросил, наконец, это бестолковое чтение, убедивши себя в том, что он превзошел всю человеческую науку, что все мыслители — дурачье и что всех их надо повесить на одну осину. Это отрицание, конечно, очень отважно и очень беспощадно, но оно, кроме того, чрезвычайно смешно и для отрицаемых предметов совершенно безвредно. Когда человек отрицает решительно все, то это значит, что он не отрицает ровно ничего и что он даже ничего не знает и не понимает. Если этим легким делом сплошного отрицания занимается не ребенок, а взрослый человек, то можно даже смело утверждать, что этот бойкий господин одарен таким неподвижным и ленивым умом, который никогда не усвоит себе и не поймет ни одной дельной мысли. Онегин расправляется с книгами так, как он расправился выше с балетами Дидло и как он в III главе будет расправляться с глупой луной и с глупым небосклоном. Он произносит резкую фразу, которую доверчивые люди принимают за смелую мысль. Враждебное столкновение его с книгами составляет в его жизни последнюю попытку отыскать себе труд. После этой попытки Онегин и Пушкин окончательно убеждаются в том, что для высших натур не существует в жизни увлекательного труда и что чем человек умнее, тем больше он должен скучать. Сваливать таким образом всякую вину на роковые законы природы, конечно, очень удобно и даже лестно для тех людей, которые не привыкли и не умеют размышлять и которые посредством этого сваливания могут без дальнейших хлопот перечислить себя из тунеядцев в высшие натуры. У Пушкина особенно развита эта замашка выдумывать законы природы и ставить эти выдуманные законы, как границу, за которую не может проникнуть никакое исследование. Спрашивается, например, отчего люди скучают? На это можно отвечать: оттого, что они ничего не делают. А отчего они ничего не делают? Оттого, что за них работают другие люди. А это отчего происходит? На этот вопрос также можно отыскать ответ, но только, разумеется, тут придется въехать и в историю, и в политическую экономию, и в физиологию, и в опытную психологию. Но у Пушкина дело не доходит даже до второго вопроса. У него сию минуту готов закон природы. Пушкинский Фауст говорит, например, Мефистофелю: «Мне скучно, бес», а Мефистофель немедленно объясняет ему, что «таков вам положен предел» и что «вся тварь разумная скучает». И Фауст доверчиво и даже с некоторым ужасом выслушивает вздорную болтовню Мефистофеля, а потом для развлечения приказывает Мефистофелю утопить испанский трехмачтовый корабль, готовый пристать к берегам Голландии. Эта так называемая «Сцена из Фауста» составляет превосходный комментарий к «Евгению Онегину». В этой сцене демонизм, как понимает его Пушкин, доведен уже до последних границ нелепого и смешного. Тут уж для читателя становится ясно, что пушкинский Фауст — совсем не Фауст и совсем не высшая натура, а просто развеселый купеческий сынок, которому свойственно не топить трехмачтовые испанские корабли, а разрушать большие зеркала в русских увеселительных заведениях. Над Мефистофелем этот резвый юноша не имеет ни малейшей власти, но должность Мефистофеля исправляет при этом российском Фаусте толстый бумажник, наполненный кредитными билетами. Именно этот карманный Мефистофель и дает ему возможность бить зеркала, для того чтобы разнообразить жизнь и прогонять на несколько минут роковую скуку. Отнимите у российского Фауста бумажник, и он тотчас сделается тише воды, ниже травы, скромнее красной девушки. Вместе с вспышками демонической натуры пропадет и роковая скука. Фауст пойдет в чернорабочие и затеряется в той серой толпе, которую он отважно давил своими рысаками во времена своего господства над карманным Мефистофелем.
По натуре своей Онегин чрезвычайно похож на Фауста, который в романе топит испанские корабли, а в жизни крушит русские зеркала. И демонизм Онегина также целиком сидит в его бумажнике. Как только бумажник опустеет, так Онегин тотчас пойдет в чиновники и превратится в Фамусова. И тогда самый опытный наблюдатель ни за что не отличит его от той толпы, которую он презирал на том основании, что он будто бы «жил и мыслил».
Итак, Онегин скучает не от того, что он не находит себе разумной деятельности, и не оттого, что он — высшая натура, и не оттого, что «вся тварь разумная скучает», а просто оттого, что у него лежат в кармане шальные деньги, которые дают ему возможность много есть, много пить много заниматься «наукой страсти нежной» и корчить всякие гримасы, какие он только пожелает состроить. Ум его ничем не охлажден, он только совершенно не тронут и не развит. И г р у страстей он испытал настолько, насколько эта игра входит в «нашу страсти нежной». О существовании других, более сильных страстей, страстей направленных к идее, он даже не имеет никакого понятия подобно тому, как не имеет о них понятия пушкинский Фауст. Ж а р своего сердца Онегин истратил на будуарные сцены и на маскарадные похождения. Если Онегин думает, что жизнь томит его, то он думает чистый вздор; кого жизнь действительно томит, тот не поскачет на почтовых за наследством в деревню умирающего дяди. Ж и т ь, на языке Онегина, — значит гулять по бульвару, обедать у Талона, ездить в театры и на балы. Мыслить — значит критиковать балеты Дидло и ругать луну дурой за то, что она кругла. Ч у в с т в о в а т ь — значит завидовать волнам, которые ложатся к ногам хорошенькой барыни. К т о жил и мыслил подобно Онегину, т о т, разумеется, н е может не презирать людей, живущих менее роскошно и мыслящих не столь оригинально. Кто чувствовал одобно Онегину, т о г о, разумеется, тревожит призрак невозвратимых дней, то есть тех дней, когда случалось видеть вблизи ножки, ланиты, перси и разные другие интересные подробности женского тела. Таким образом, я ответил на все вопросы, поставленные мною в первой главе, и у нас оказался тот неожиданный результат, что Онегин — совсем не «дух отрицанья, дух сомненья», а просто — коварный изменщик и жестокий тиран дамских сердец. Мы увидим ниже, что этот результат оправдывается всем дальнейшим ходом романа.
III
Пушкин подружился с Онегиным и признал за ним право презирать людей в то время, когда Онегин, постигнув суетность науки, задергивал траурной тафтой полку с книгами. Вслед затем умер отец Онегина, и Евгений предоставил наследство кредиторам, —
Иль предузнав издалека
Кончину дяди-старика.
Действительно, дядя вскоре занемогает, и
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал,
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман.
О предстоящих занятиях с больным дядей Онегин размышлял так:
С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.
Какое низкое коварство —
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмет тебя!
Все это очень естественно и изложено очень хорошими стихами, но все это, очевидно, совершенно уравнивает Онегина с самыми презренными людьми презренной толпы. Из-за чего суетятся, сгибаются в дугу, актерствуют и подличают самые презренные люди? Из-за чего Молчалин ходит на задних лапках перед Фамусовым и перед всеми его важными гостями? — Из-за презренного металла, которым поддерживается бренное существование. А ради чего Онегин скачет с т р е м г л а в по почте и приготовляется к хождению на задних лапках перед умирающим родственником? — Денег ради, отвечает Пушкин со свойственной ему откровенностью. Онегин унижается перед дядей, Молчалин унижается перед начальником; побудительная причина у обоих одна и та же. С какой же стати Пушкин дает Онегину право презирать толпу, в которой молчалинство составляет самую темную и грязную сторону? Если Онегину необходимо упражняться в презрении, то ему следовало бы начать с самого себя и даже кончить самим собою, то есть сосредоточить навсегда все свое презрение на собственной личности и оставить толпу в покое, потому что даже такой мелкий человек толпы, как Молчалин, все-таки стоит выше блестящего денди Онегина. Молчалин подличает потому, что в русской жизни господствует, как остроумно заметил Помяловский, своеобразный экономический закон, вследствие которого человек, дающий работу, считает себя благодетелем человека, получающего и выполняющего работу. Очень немногие отрасли труда освободились от господства этого своеобразного закона, и, разумеется, то поприще, на котором подвизается Молчалин, относится к числу неосвободившихся отраслей. Подличая перед Фамусовым, Молчалин добивается только того, чтобы у него не отняли работы и чтобы ему платили за эту работу хорошие деньги. Разумна ли и полезна ли сама работа — за это Молчалин не отвечает, потому что не он ее выдумал. Дело Молчалина — трудиться, и он действительно трудится, и его начальник, Фамусов, сознается, что Молчалин — деловой человек. Когда же Онегин подличает перед дядей, тогда он ждет от дяди не работы и не задельной платы, а даровой подачки, что, конечно, несравненно унизительнее для человеческого достоинства. Онегину постыл упорный труд, и вследствие этого каждый человек, способный трудиться, имеет полное и разумное право смотреть на Онегина с презрением, как на вечного недоросля в умственном и в нравственном отношениях. Получив наследство, Онегин улучшает положение мужиков:
Оброком легким заменил:
Мужик судьбу благословил.
Это, конечно, недурно со стороны Онегина. Но это доказывает только, во-первых, что Онегин — не Плюшкин и не Гарпагон, и не Скупой Рыцарь, а во-вторых, что полученное наследство было достаточно велико. Легкий оброк, несмотря на всю свою легкость, все-таки давал Онегину полную возможность иметь в деревне «обед довольно прихотливый», пить с Ленским бордо и шампанское, а потом, после смерти Ленского, разъезжать в течение двух лет по России. Если бы наследство было менее значительно, то, по всей вероятности, мужику не пришлось бы благословлять судьбу, потому что Онегин вряд ли отказался бы от бордо, от странствований по России и от разных других удобств жизни, которые должны оплачиваться «легким оброком» или «старинной барщиной». Значит, отношения Онегина к мужикам украшают нашего героя только отрицательным достоинством, то есть спасают его от упрека в корыстолюбии.
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья…
На третий — роща, холм и поле
Его не занимали боле,
Потом уж наводили сон.
(Глава I. Строфа LIV.)
И, разумеется, хандра стала бегать за ним, «как тень или верная жена». Многим — в том числе и Пушкину — эта способность скучать всегда и везде кажется привилегией сильных умом, не способных удовлетворяться тем, что составляет счастье обыкновенных людей. Пушкин здесь, как и везде, подметил и обрисовал самый факт совершенно верно; но, чуть только дело доходит до объяснения представленного факта, Пушкин тотчас впадает в самые грубые ошибки. Действительно, человек, подобный Онегину, испорченный до мозга костей систематической праздностью мысли, должен скучать постоянно; действительно, такой человек должен кидаться с жадностью на всякую новизну и должен охладевать к ней, как только успеет в нее вглядеться; все это совершенно верно, но все это доказывает не то, что он слишком много жил, мыслил и чувствовал, а совсем напротив — то, что он вовсе не мыслил, вовсе не умеет мыслить, и что все его чувства были всегда так же мелки и ничтожны, как чувства остроумного джентльмена, завидующего счастливому бревну, на которое оперлась чья-то хорошенькая ножка. В области мысли Онегин остался ребенком, несмотря на то, что он соблазнил многих женщин и прочитал много книжек. Онегин, как десятилетний ребенок, умеет только воспринимать впечатления и совсем не умеет их перерабатывать. Оттого он и нуждается в постоянном притоке свежих впечатлений; пока перед его глазами мелькают новые картинки, невиданные переливы красок, непривычные комбинации линий и теней, до тех пор он спокоен, не хмурится и не пищит. Ум его по обыкновению находится в бездействии; наш герой широко раскрывает глаза и через эти раскрытые форточки совершенно пассивно втягивает в себя впечатления окружающего мира; когда декорации быстро переменяются, тогда форточки работают исправно, и пассивное втягивание впечатлений мешает нашему герою оставаться наедине с самим собою; когда же передвижение декораций прекращается и когда вследствие этого бесцельное глазение становится невозможным, тогда хроническое бездействие ума выдвигается на первый план, Онегин остается наедине с своей умственной нищетой, и, разумеется, ощущение этой безнадежной нищеты погружает его в то психическое состояние, которое называется скукой, тоской или хандрой. Все это нисколько не величественно и нимало не трогательно. Постоянным собеседником и приятелем Онегина, скучающего в деревне, становится его молодой сосед,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет.
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
(Глава II. Строфа VI.)
Плоды учености этого господина были, по всей вероятности, никуда не годны, потому что этому господину было «без малого осьмнадцать лет», а между тем он считал уже свое образование оконченным и помышлял только о том, чтобы поскорее жениться на Ольге Лариной, наплодить побольше детей и написать побольше стихотворений о романтических розах и о туманной дали. В чем заключались геттингенские свойства его души и в чем проявлялось его уважение к Канту, — это остается для нас вечной тайной. О его вольнолюбивых мечтах мы также ровно ничего не узнаем, потому что во время своих свиданий с Онегиным геттингенская душа только и делает, что тянет шампанское да врет эротические глупости. Неотъемлемой собственностью Ленского остаются, таким образом, длинные черные волосы, всегдашняя восторженность речи и пылкость духа с достаточной примесью странности. Все это вместе должно было делать его общество совершенно невыносимым для всякого мало-мальски серьезного и мыслящего человека; но Онегину эта недоучившаяся пифия, разумеется, очень понравилась по той простой причине, что Онегину прежде всего было необходимо хоть чем-нибудь занять ту или другую пару форточек, то есть дать какую-нибудь работу или глазам, или ушам. А так как Ленский болтал восторженно и неудержимо, то, стало быть, участь онегинских ушей была вполне обеспечена.
Пушкин уверяет нас, что беседы этих двух мыслителей были чрезвычайно разнообразны:
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в своем чреду,
Все подвергалось их суду.
(Глава II. Строфа XVI.)
В этих беседах могли бы обнаружиться и особенности геттингенской души и охлажденности онегинского ума; в этих беседах могли бы обрисоваться со всех сторон политические, нравственные и всякие другие убеждения Онегина и Ленского; но, к сожалению, в романе не представлено ни одной такой беседы, и вследствие этого мы имеем полное право крепко сомневаться в том, имелись ли у этих двух праздношатающихся джентльменов какие-нибудь убеждения.
Читатели мои, по всей вероятности, знают и помнят очень хорошо, что Пушкин в «Евгении Онегине» рассуждает чрезвычайно пространно о всевозможных предметах, очень мало относящихся к делу; тут и дамские ножки, и сравнение аи с бордо, и негодование против альбомов петербургских дам, и соображения о том, что наше северное лето — карикатура южных зим, воспоминания о садах лицея и многое множество других вставок и украшений. А между тем, когда нужно решить действительно важный вопрос, когда надо показать, что у главных действующих лиц были определенные понятия о жизни и о междучеловеческих отношениях, тогда наш великий поэт отделывается коротким и совершенно неопределенным намеком на какие-то разнообразные беседы, которые будто бы рождали споры и влекли к размышлению. Один такой спор, очевидно, охарактеризовал бы Онегина несравненно полнее, чем десятки очень милых, но совершенно ненужных подробностей о том, как он играл на биллиарде тупым кием, как он садился в ванну со льдом, в котором часу он обедал, и так далее. Ни одного такого спора мы не видим в романе. И это еще не все. Пушкин упоминает о разнообразных беседах в строфе XVI II главы, а в XV строфе он сообщает нам такие подробности, которые, быть может, делают величайшую честь нежности онегинского сердца, но которые в то же время совершенно уничтожают возможность серьезных споров, влекущих к размышлению:
И ум, еще в сужденьях зыбкий,
И вечно вдохновенный взор —
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству —
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству.
Какой же дельный спор, какой же серьезный обмен мыслей возможен тогда, когда один из собеседников постоянно старается воздерживаться от охладительных слов и когда другой собеседник постоянно пылает, то есть постоянно нуждается в охлаждении? Если мы пересмотрим те предметы разговора, которые перечислены Пушкиным в XVI строфе, то мы немедленно убедимся в том, что споры об этих предметах были совершенно невозможны без охладительных слов со стороны Онегина. Если эти споры действительно влекли к размышлениям, то они должны были состоять почти исключительно в том, что Ленский фантазировал и предавался сладостному оптимизму, а Онегин произносил разные печальные истины и охладительные слова. В самом деле, что их занимало? Во-первых — племен минувших договоры. Хотя это выражение очень неудачно и неясно, однако, можно понять, что тут дело идет об исторических вопросах. Ясное дело, что Ленский, как идеалист и как поэт, должен был строить в области истории разные красивые и трогательные теодицеи, а Онегин, как скептик, должен был разрушать эти построения охладительными аргументами. Если даже мы примем слово д о г о в о р ы в его точном и буквальном значении, то и тогда спор вряд ли обойдется без охладительных слов. Об Анталкидовом мире[2] или о договоре Олега с греками[3] можно, конечно, рассуждать совершенно безопасно и беспристрастно, но, по всей вероятности, друзья наши не забирались в такую глубокую древность: если же они беседовали о каком-нибудь договоре поновее, например, о Священном союзе[4], или о Венском конгрессе[5], или о карлсбадских конференциях[6], то Ленский с большим удобством мог предаваться неосновательным восторгам, против которых необходимо было действовать охладительными словами. Во-вторых — плоды н а у к. Тут все зависит от того, к а к и е плоды. О математических сочинениях Эйлера или Лагранжа можно рассуждать без охладительных слов. Но если только друзья наши брали что-нибудь поживее, например, систему мира Лапласа или теорию перерождений Ламарка, то охладительные слова становились неизбежными, потому что такие ученые, как Лаплас и Ламарк, разрушают очень многие заблуждения, весьма драгоценные для юных идеалистов и романтиков. А так как друзья наши вряд ли беседовали об аналитической геометрии и так как, по всей вероятности, они выбирали те плоды наукии, которые, так или иначе, затрагивают общие вопросы миросозерцания, то, стало быть, и о плодах науки нельзя было спорить без охладительных слов. В-третьих — добро и зло, то есть основания нравственности. Тут столкновение противоположных убеждений совершенно неизбежно, и необходимость охладительных слов до такой степени очевидна, что нечего об этом и распространяться. В-четвертых, предрассудки вековые. Если происходил спор о вековых предрассудках, то этот спор мог принимать одну из двух главных форм: или Онегин считал какое-нибудь мнение за предрассудок, а Ленский доказывал его разумность, или же, наоборот, Ленский нападал на предрассудок, а Онегин его отстаивал. В первом случае Ленский, как юноша и поэт, брал под свое покровительство разные красивые иллюзии, которые Онегин, как человек, познакомившийся с жизнью, отрицал и осмеивал. Во втором случае Ленский, как юный и горячий представитель чистой теории, не склоняющейся ни на какие компромиссы, осуждал, с высоты своей идеи, разные мелкие слабости общества, которые Онегин, как опытный человек, считал извинительными или даже неизбежными. В том и другом случае Онегину пришлось бы совершенно отказаться от спора, если бы он захотел воздержаться от охладительных слов. В-пятых — гроба тайны роковые. Час от часу не легче. Если возможен какой-нибудь cпор о роковых тайнах гроба, то этот опор может происходить только насчет бессмертия души. Между Онегиным и Ленским спор, без сомнения, должен был завязаться так, что Онегин отрицал, а Ленский утверждал. Начиная такой спор, Онегин, очевидно, затрагивал такой предмет, который составлял для юного идеалиста величайшую и неприкосновеннейшую драгоценность. Как бы мягко и осторожно Онегин ни выражался, во всяком случае уже тот факт, что он ставил знак вопросительный там, где Ленский ставил точку или знак восклицательный, один этот факт, говорю я, должен был произвести на несчастного поэта гораздо более потрясающее впечатление, чем всевозможные охладительные слова. В-шестых — судьбы и жизнь. Ну, это выражение так неясно и так растяжимо, что о нем нечего и говорить.
Подробный анализ тех высоких предметов, о которых разговаривали Онегин и Ленский, приводит меня к тому заключению, что они ни о каких высоких предметах не разговаривали и что Пушкин не имеет никакого понятия о том, что значит серьезный спор, влекущий к размышлению, и какое значение имеет для человека осознанное и глубоко прочувствованное убеждение. Пушкину хотелось, чтобы Онегин в своих отношениях к Ленскому обнаруживал грациозную мягкость своего характера, и Пушкин, как человек, хорошо знакомый с грациозной мягкостью и совершенно не знакомый с убеждениями, не сообразил того, что, навязывая своему герою это изящное свойство, он осуждал его на такую жалкую бесцветность, при которой возможны только прения о погоде, о достоинствах шампанского, да, пожалуй, еще о договорах Олега с греками. Если бы Онегин действительно имел какие-нибудь убеждения, то, подружившись с Ленским, он именно из привязанности к нему, старался бы откровенно поделиться с ним своими взглядами на жизнь и разрушить дружескими разговорами те юношеские заблуждения, которые, рано или поздно, грубо и безжалостно разрушит презренная житейская проза. Но Онегин, по своей неразвитости и по совершенному отсутствию убеждений, соблюдает в отношении к Ленскому ту знаменитую политику скрывания и педагогического обмана, которую постоянно прилагают к своим питомцам все родители и воспитатели, отличающиеся теплотой чувств и ограниченностью ума.
Я уже показал выше, что при этой политике совершенно невозможны серьезные разговоры о предметах, вызывающих на размышление. И так как Пушкин нам действительно не сообщает ни одного подобного разговора, то мы имеем полное право утверждать, что Онегин и Ленский были совершенно не способны к серьезным рассуждениям и что Пушкин, желая поставить их на пьедестал, упомянул мимоходом о разных высоких предметах, до которых ни ему самому, ни его героям никогда не была никакого дела. Договоры племен, вековые предрассудки, роковые тайны — все это одни слова, к которым критик должен относиться с крайней недоверчивостью.
IV
Любопытно заметить, что грациозная мягкость изменяет Онегину именно тогда, когда она была необходима и когда охладительное слово было не только очень невежливо, но еще кроме того совершенно бесполезно. Вот каким образом Онегин рассуждает об Ольге, в которую, как ему известно, давно уже влюблен Ленский:
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.
(Глава III. Строфа V.)
Эта тирада, очевидно, было оказана только для того, чтобы полюбоваться насмешливой холодностью своего взгляда на природу и на жизнь. Ленскому эта грубая и бестолковая выходка против Ольги показалась очень неприятной, и, кроме этой, совершенно бесплодной неприятности, ровно ничего не вышло и не могло выйти из охладительного слова, произнесенного Онегиным ни к селу, ни к городу, для услаждения собственного слуха. Впрочем, надо и то сказать, что Ленский сам напрашивается на подобные дерзости: он лезет к Онегину с такими конфиденциальными разговорами об Ольге, которые совершенно несовместны с серьезным уважением любящего мужчины к любимой женщине. Он с бокалом шампанского анализирует Ольгу с пластической точки зрения, и этому занятию он предается уже после того, как Онегин сравнил эту Ольгу с глупой луной. Вот его подлинные слова:
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!
(Глава IV. Строфа XLVIII.)
Когда Базаров сказал своему другу несколько слов о плечах женщины, которую он видел в первый раз, тогда наша критика и наша публика порешили, что Базаров — ужасный циник. Но если бы критика и публика потрудились перечитать «Евгения Онегина», то они увидели бы, что идеалист и романтик Ленский далеко перещеголял материалиста и эмпирика Базарова. Базаров говорил о незнакомой женщине, Ленский, напротив того, — о той девушке, в которую он был влюблен с детства; Базаров говорил только о плечах, а Ленский — о плечах и о груди. Стало быть, упрек в цинизме относится по всем правам к пламенным идеалистам двадцатых годов, а не к холодным реалистам нашего времени. Впрочем, это совершенно естественно, потому что, как нам известно даже из прописей, праздность есть мать всех пороков, а в деле праздности Базарову, конечно, мудрено тягаться с Онегиным и с Ленским. Праздность Онегина так колоссальна, что он даже
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
На биллиарде в два шара
Играет с самого утра.
(Глава IV. Строфа XL1V.)
При таком бездействии мысли вранье на разные темы составляет, конечно, одно из лучших украшений жизни.
Чтобы дорисовать личность Ленского, надо разобрать его дуэль с Онегиным. Тут читатель решительно не знает, кому отдать пальму первенства по части тупоумия — Онегину или Ленскому. Единственное возможное объяснение этого нелепейшего случая состоит в том, что оба они, Ленский и Онегин, совершенно ошалели от безделья и от мертвящей скуки. Онегину захотелось взбесить Ленского и таким образом отмстить ему за то, что у Лариных на именины Татьяны собралось много гостей, между тем как Ленский говорил Онегину, что не будет никого из посторонних. Чтобы исполнить свое намерение, Онегин танцует с Ольгой сначала вальс, потом мазурку, потом котильон. Во время танцев он,
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче.
(Глава V. Строфа XLIV.)
Но, спрашивается, что же он мог видеть? Что Онегин наклонялся к Ольге и шептал ей что-то, в этом, кажется, нет ничего преступного. Кавалеры обыкновенно говорят с дамами во время танцев, и никто не обязывает их говорить так громко, чтобы каждое слово было слышно во всех концах залы. Пошлого мадригала Ленский не мог ни видеть, ни слышать, потому что он был произнесен шопотом. Заметить пожатие руки было также невозможно, потому что это движение, мускулов совершенно неуловимо для глаз. Что Ольга улыбалась и краснела — это Ленский, конечно, мог видеть; но, во-первых, во время танцев никто не хмурится; а во-вторых, Ольга могла раскраснеться именно от движения; наконец, если бы даже Ленский мог быть твердо убежден в том, что Онегин говорит Ольге комплименты насчет ее наружности и что Ольга улыбается и краснеет от удовольствия, то и тогда он не имел бы никакого основания сердиться ни на Онегина, ни на Ольгу. В двадцатых годах комплименты были еще в полном ходу, и дамы были еще так наивны, что находили их лестными и приятными. Стало быть, ни Онегин, ни Ольга не позволили себе решительно ничего такого, что выходило бы из уровня принятых обычаев. Но Ленский лезет на стены:
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.
(Глава V. Строфа XLV.)
А весь удар состоял в том, что Ольга не пошла танцовать с ним котильон. А не пошла она по той законной причине, что ее уже заранее пригласил Онегин. Легко может быть, что в двадцатых годах действительно существовали такие чудаки, которые принимали подобные события за жестокие удары. Но в таком случае надо будет сознаться, что у романтиков двадцатых годов была в голове своя оригинальная логика, о которой мы в настоящее время не можем составить себе почти никакого понятия. Кроме того, не мешает заметить, что женам этих чувствительных и пламенных романтиков было, по всей вероятности, очень скверно жить на свете.
Трагедия по поводу котильона происходит за неделю с небольшим до срока, назначенного для свадьбы Ленского, который знал и любил свою невесту с самого детства. Если Ленский осмеливается оскорблять бессмысленными подозрениями ту девушку, которую он знает с малых лет, и если эти подозрения могут возникнуть от каждого взгляда, брошенного Ольгою на постороннего мужчину, то, спрашивается, когда же и при каких условиях установятся между мужем и женою разумные отношения, основанные на взаимном доверии? И если о разумном взгляде на женщину не имеет никакого понятия геттингенская душа, читающая Шиллера и поклоняющаяся Канту, то, спрашивается, какая же разница существует между геттингенской душой и душой вятской или симбирской? И что за охота была Пушкину посылать Ленского в туманную Германию за плодами учености и за какими-то вольнолюбивыми мечтами, когда этому Ленскому суждено было только сказать и сделать в романе несколько плоскостей, которым он мог бы с величайшим удобством научиться не только в своей деревне, но даже и в какой-нибудь букеевской[7] орде? Что же касается до длинных волос, которые Ленский, по свидетельству Пушкина, также привез с собою из туманной Германии, то мне кажется, что они, при тщательном уходе, могли бы вырасти и в России.
Приехав домой после измены коварной Ольги, Ленский посылает Онегину:
Короткий вызов, иль к а р т е л ь.
К сожалению, Пушкин не представляет нам того письма, которое написал по этому поводу «поклонник Канта и поэт». У Пушкина сказано только, что
Звал друга Ленский на дуэль.
Но так как вызов надо же чем-нибудь мотивировать, то было бы очень любопытно посмотреть, каким образом Ленский вывернулся из этой задачи, то есть каким образом он ухитрился писать к Онегину о небывалом оскорблении. Впрочем, рыбак рыбака видит издалека. Ленский, вероятно, предчувствовал, что всякая пошлость непременно найдет себе сочувственный отзыв в душе его бывшего друга и что, следовательно, в сношениях с этим бывшим другом можно нарушать совершенно безбоязненно все правила обыкновенной человеческой логики. Ленский, по-видимому, понимал, что Онегин, как светский человек, есть прежде всего машина, которая при известном прикосновении непременно должна произвести известное движение, хотя бы это движение при данных условиях было совершенно бессмысленно и даже крайне неуместно. Разумеется, Онегин вполне оправдывает надежды своего достойного друга. Получивши «приятный, благородный, короткий вызов», он, как образованный денди, не требует никаких дальнейших объяснений и отвечает приятно, благородно, коротко, «что он всегда готов». Секундант Ленского тотчас уезжает, а Онегин, «наедине с своей душой» начинает соображать, что эта душа наделала премного глупостей. Онегин недоволен сам собой. Пушкин говорит:
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых, пускай поэт
Дурачится: в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком-бойцом,
Но мужем с честью и с умом.
Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь:
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно, время улетело…
К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист…
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шопот, хохотня глупцов…
И вот общественное мненье!..
Пружина чести, наш кумир!..
И вот на чем вертится мир!»
(Глава VI. Строфа X, XI.)
Евгений, как видите, любит юношу всем сердцем; кроме того, строгий разбор, произведенный на тайном суде совести, говорит ему, что муж с честью и с умом не стал бы щетиниться, как зверь, и не позволил бы себе стрелять в восемнадцатилетнего разыгравшегося мальчика. На одну чашку весов Онегин кладет жизнь юноши, которого он любит всем сердцем, и, кроме того, здравые требования ума и чести, — те требования, которые сформулированы строгим разбором тайного суда. На другую чашку Онегин кладет шопот и хохотню глупцов, которых натравит старый дуэлист и злой сплетник, достойный, по мнению самого же Онегина, самого полного презрения. Вторая чашка тотчас перетягивает, и догадливый читатель немедленно может составить себе очень наглядное понятие о том, как сильно умеет Онегин любить и как высоко ценит он свое собственное уважение. — Я должен убить моего друга, рассуждает Онегин, я должен оказаться перед тайным судом моей совести мужем без чести и без ума, я должен это сделать непременно, потому что, в противном случае, дураки, которых я презираю, будут шептать и смеяться.
Из этого процесса мысли мы видим ясно, что слова: «друг», «совесть», «честь», «ум», «дураки», «презирать» не имеют для Онегина никакого осязательного смысла. Как негр, задавленный непосильным трудом, тяжелыми лишениями и ежедневными побоями, теряет способность любить, ненавидеть, презирать и рассуждать, превращается в тупое вьючное животное, способное только к пассивному повиновению и к машинальной работе из-под палки, так и Онегин, задавленный умственною пустотой и гнетом светских предрассудков, навсегда потерял силу и уменье чувствовать, мыслить и действовать, не испрашивая на то соизволения у той толпы, которую он величественно презирает. Личное понятие, личные чувства, личные желания Онегина так слабы и вялы, что они не могут иметь никакого ощутительного влияния на его поступки. Поступит он во всяком случае так, как того потребует от него светская толпа; он даже не подождет, чтобы эта толпа выразила ясно свое требование; он его угадает заранее; он с утонченною угодливостью раба, воспитанного в рабстве с колыбели, предупредит все желания этой толпы, которая, как избалованный властелин, разумеется, даже и внимания не обратит на то, какими усилиями и жертвами ее верный раб, Онегин, купил себе право оставаться в ее глазах джентльменом самой безукоризненной бесцветности. И толпа поступает совершенно справедливо, когда не обращает внимания на усилия и жертвы верного раба; верный раб верен только потому, что не смеет сделаться неверным; он боится своего господина и в то же время вместе с другими столь же трусливыми и верными рабами ежеминутно ругает его за глаза, подобно тому, как это делают все лакеи, проникнутые духом лакейства до мозга костей. Этой лакейской замашкой ругать за глаза строгого господина объясняется то презрение к толпе, которым драпируется Онегин. Это красивое презрение — чувство совершенно платоническое; оно целиком улетучивается в словах; как только приходится действовать, так это презрение сменяется тотчас самым плоским и раболепным благоговением.
Спрашивается теперь, каким образом должен был отнестись поэт к этой черте в характере Онегина? Мне кажется, он должен был понять весь глубокий комизм этой черты, он должен был всеми силами своего таланта подметить и разработать в этой черте все ее смешные стороны, он должен был осмеять, опошлить и втоптать в грязь без малейшего сострадания ту низкую трусость, которая заставляет неглупого человека играть роль вредного идиота, для того чтобы не подвергнуться робким и косвенным насмешкам настоящих идиотов, достойных полного презрения. Поступая таким образом, поэт оказал бы действительную и серьезную услугу общественному самосознанию; он бы заставил толпу смеяться над теми формулами тупоумия и безличности, на которые она, по своей недогадливости и инерции мысли, привыкла смотреть не только равнодушно, но даже благосклонно.
Так ли поступил Пушкин? Нет, он поступил как раз наоборот. В своем взгляде на положение Онегина он сам оказался человеком светской толпы и употребил все силы своего таланта на то, чтобы из мелкого, трусливого, бесхарактерного и праздношатающегося франтика сделать трагическую личность, изнемогающую в борьбе с непреодолимыми требованиями века и народа. Вместо того чтобы сказать читателю: как пуст, смешон и ничтожен мой Онегин, убивающий своего друга в угоду дуракам и негодяям, Пушкин говорит: «и вот на чем вертится мир!», точно будто бы отказаться от бессмысленного вызова — значит нарушить мировой закон.
Возвышая таким образом в глазах читающей массы те типы и те черты характера, которые сами по себе низки, пошлы и ничтожны, Пушкин всеми силами своего таланта усыпляет то общественное самосознание, которое истинный поэт должен пробуждать и воспитывать своими произведениями. Сваливая на общие причины, на неумолимую судьбу и на мировые законы вину позорных ошибок, от которых каждый умный и энергический человек может уберечься силами своей собственной личности, Пушкин оправдывает и поддерживает своим авторитетом робость, беспечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Он подавляет личную энергию, обезоруживает личный протест и укрепляет те общественные предрассудки, которые каждый мыслящий человек обязан разрушать всеми силами своего ума и всем запасом своих знаний. «И вот на чем вертится мир!» Как вам нравится это наивное признание Пушкина, что для него весь мир сосредоточивается в тех малочисленных кружках фешенебельного общества, в которых люди, обожающие «пружину чести», из благоговения к этой пружине стреляются со своими друзьями против собственного желания и против собственного убеждения?
Сделавши замечательное открытие, что мир вертится на пружине чести, Пушкин далеко превосходит Людовика-Филиппа, придумавшего остроумное выражение «le pays legal» {Легальная страна. Ред.} для обозначения тех французов, которые пользовались правом голоса на выборах депутатов. У Людовика Филиппа огромное большинство французов остается за пределами законной Франции, а у Пушкина огромное большинство людей остается за пределами существующего мира, — что, без сомнения, гораздо более остроумно.
V
Онегин остается ничтожнейшим пошляком до самого конца своей истории с Ленским, а Пушкин до самого конца продолжает воспевать его поступки, как грандиозные и трагические события. Благодаря превосходному рассказу нашего поэта читатель видит постоянно не внутреннюю дрянность и мелкость побуждений, а внешнюю красоту и величественность хладнокровного мужества и безукоризненного джентльменства.
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить, но как раз
Онегин выстрелил… Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет.
На грудь кладет тихонько руку
И падает.
(Глава VI. Строфы XXX, XXXI)
Господи, как красиво! Люди переходят твердою походкой ровно четыре шага, четыре смертные ступени. Два человека без всякой надобности идут на смерть и смотрят ей в глаза, не обнаруживая ни малейшего волнения. Так это красиво и так это старательно воспето, что читатель, замирая от ужаса и преклоняясь перед доблестями храбрых героев, даже не осмелится и не сумеет подумать о том, до какой степени глупо все это происшествие и до какой степени похожи величественные героя, соблюдающие твердость и тишину походки, на жалких дрессированных гладиаторов, тративших всю свою энергию на то, чтобы в предсмертных муках доставить удовольствие зрителям красивой позитурой тела. А между тем, эти зрители были злейшими врагами гладиаторов, и если бы гладиаторы направили свою энергию не на красивые позы, а на тупоумных любителей этих поз, то легко могло бы случиться, что они навсегда избавили бы себя от печальной необходимости тешить праздных дураков красивыми позами. Надо полагать, что гладиаторы были очень глупы и что глупость их, к сожалению, не умерла вместе с ними.
Но, кроме общей гладиаторской глупости, поведение Онегина в сцене дуэли заключает в себе еще свою собственную, совершенно специальную глупость или дрянность, которая до сих пор, сколько мне известно, была упущена из виду самыми внимательными критиками. То обстоятельство, что он принял вызов Ленского и явился на поединок, еще может быть до некоторой степени объяснено, — хотя, конечно, не оправдано, — влиянием светских предрассудков, сделавшихся для Онегина второю природой. Но то обстоятельство, что он, «всем; сердцем юношу любя» и сознавая себя кругом виноватым, целил в Ленского и убил его, может быть объяснено только или крайним малодушием, или непостижимым тупоумием. Светский предрассудок обязывал Онегина итти навстречу опасности, но светский предрассудок нисколько не запрещал ему выдержать выстрел Ленского и потом разрядить пистолет на воздух. При таком образе действий и волки были бы сыты, и овцы были бы целы. Репутация храбрых гладиаторов была бы спасена: Ленский, вполне удовлетворенный и обезоруженный, пригласил бы Онегина быть шафером на его свадьбе, а Онегин, сказавший Ольге пошлый мадригал и оказавший себя мячиком предрассуждений, за все эти продерзости был бы наказан тем неприятным ощущением, которое доставляет каждому порядочному человеку созерцание пистолетного дула, направленного прямо на его собственную особу. Конечно, Ленский мог убить или тяжело ранить Онегина, которому в таком случае не пришлось бы быть шафером на предстоящей свадьбе, но эта перспектива нисколько не должна была конфузить Онегина, если только он действительно был утомлен жизнью и совершенно искренно тяготился ее пустотой. Онегин не должен был колебаться ни одной минуты, когда ему надо было решать на практике вопрос, кому жить, ему или Ленскому? Он ни на одну минуту не должен был ставить собственную опротивевшую ему жизнь на одну доску с свежей жизнью влюбленного юноши. Однако он поступил как раз наоборот. Он первый стал поднимать свой пистолет и выстрелил именно в то самое время, когда Ленский начал прицеливаться.
Почему же он это сделал? Или потому, что не сообразил заранее, как ему следовало распорядиться, или же потому, что чувство самосохранения одержало верх над всеми предварительными соображениями. Первое предположение очень неправдоподобно; сообразить было немудрено; если Онегин не умеет подумать даже тогда, когда от его размышлений зависит жизнь юноши, которого он любит всем сердцем, то, значит, он совсем не способен шевелить мозгами. С этим трудно согласиться, хотя, разумеется, умственные способности Онегина очень неблистательны и совершенно испорчены бездействием. Остается второе предположение, которое, по моему мнению, совершенно основательно. Онегин, несмотря на свое хроническое зевание и несмотря на свою замашку ругать жизнь всякими скверными словами, очень любит эту самую жизнь и никак не согласится променять ее не только на «покои небытия», но даже и на какую-нибудь другую жизнь, более разумную и более деятельную. Умирать ему совсем не хочется, потому что, как ни ругай нашу юдоль бедствий, а все-таки в этой юдоли есть для богатого собственника и устрицы, и омары, и бордо, и клико, и прекрасный пол. Устроить себе какую-нибудь новую жизнь ему также совсем не хочется, потому что ни для какой другой жизни он не годится. Он с своей вечной скукой может прожить очень спокойно, приятно и комфортабельно лет до восьмидесяти, и когда Ленский стал целиться, тогда Онегин смекнул в одну секунду, что милую скуку позволительно ругать и проклинать, но что с нею вовсе не следует расставаться преждевременно.
Пушкин так красиво описывает мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить в пользу ничтожного Онегина не только простодушную массу читателей, но даже такого замечательного человека и такого тонкого критика, как Белинский. «Мы, — говорит Белинский, — нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом; но тирания и деспотизм! светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении» (стр. 563).
И это все! Хорош приговор. Он не оправдывает Онегина, а между тем тут же утверждает, что только герой на месте Онегина поступил бы иначе. Значит, вполне оправдывает, потому что мы не имеем никакого права требовать от обыкновенных людей таких подвигов нравственного мужества, которые превышают средний уровень обыкновенных человеческих сил. Но разве ж это правда? Разве в самом деле надо быть героем, чтобы уметь любить своего друга и чтобы не убивать собственноручно, из низкой трусости, тех людей, которых мы любим всем сердцем? Высказывая ту дикую мысль, что эти отрицательные подвиги доступны только героям, Белинский унижает человеческую природу и без всякой надобности является защитником нравственной гнилости и тряпичности. А вводит его в этот тяжелый грех его крайняя впечатлительность, подкупленная тем обстоятельством, что «подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении». Если бы Белинский потрудился задать себе вопрос, на что потрачено это художественное совершенство и к чему оно клонится, то он немедленно убедился бы в том, что за такие художественные фокусы надо не превозносить, а строго порицать поэта. Фанатические драмы Кальдерона могли быть превосходны в художественном отношении, но влияние их на испанское общество было во всяком случае отвратительно.
К Ленскому Белинский относится очень справедливо и без малейшей нежности, вероятно потому, что ему самому приходилось встречать романтиков в действительной жизни. «Люди, подобные Ленскому, — говорил Белинский, — при всех их неоспоримых достоинствах (?), не хороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохраняют навсегда свой первоначальный тип, делаются теми устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастье внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и… Ленские не перевелись и теперь: они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно прекрасно (?) было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца (?), в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди» (стр. 564 и 565).
С этими словами Белинского я совершенно согласен; не вижу я только никаких неоспоримых достоинств в Ленском; не нахожу в нем ничего обаятельно прекрасного и не умею восхищаться девственной чистотой его сердца, потому что решительно не понимаю, кому нужна эта девственная чистота, какую она может принести пользу и какими прочными качествами ума и характера она застрахована от грязнящих и развращающих прикосновений действительной жизни. Если из приведенной мною цитаты выбросить вон неоспоримые достоинства, обаятельно прекрасное и девственную чистоту, то в остатке получится энергический и строгий приговор последовательного реалиста не только над одними романтиками, но и над всеми художниками, оставляющими без внимания горе и нужду современной действительности. Если, по мнению Белинского, несносны, пусты и пошлы те люди, которые стремятся душою в надзвездную сторону мечтаний, то, очевидно, не за что миловать и тех людей, которые стремятся душою в мертвую тишину исторического прошедшего. И те, и другие, одинаково отвертываются от суеты этой земли, «где есть и голод, и нужда, и…», а именно в этом презрении к суете земли и заключается их настоящая вина. Раз как они уже отвернулись от суеты земли, тогда уже решительно все равно, в какую бы сторону они ни смотрели. Тогда они уже отрезанный ломоть, и о них можно совершенно справедливо сказать вместе с Белинским, что «это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди».
Не мешает также заметить, что эти слова Белинского чрезвычайно сильно задевают самого Пушкина, который в течение всей своей поэтической деятельности постоянно и систематически игнорировал и голод, и нужду, и все остальные болячки действительной жизни. Когда же он случайно натыкался на какую-нибудь крошечную болячку, тогда он обыкновенно брал ее под свое покровительство, то есть старался доказать ее роковую необходимость. Это, пожалуй, будет даже похуже, чем стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний.
После смерти Ленского Онегин отправляется странствовать по России, везде хмурится и пищит, везде смотрит с бессмысленным презрением на занятия суетной толпы и, наконец, доходит до такой нелепости, что начинает завидовать больным, которых он видит на кавказских минеральных водах.
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать! Тоска, тоска!
Размышления Белинского по поводу этих бессмысленных жалоб чрезвычайно любопытны; они дают нам самое наглядное понятие о глубокой искренности нашего великого критика, о его необыкновенной правдивости и о его изумительной способности принимать за чистую монету каждое человеческое слово, даже такое, в котором очень нетрудно распознать самую грубую ложь и самое нахальное шарлатанство. «Какая жизнь! — восклицает Белинский. — Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах, и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз — страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из-за чего-то хлопочут, чем-то заняты, один — деньгами, другой — женитьбой, третий — болезнью, четвертый — нуждою и кровавым потом работы, — видеть вокруг себя и веселье, и печаль, и смех, и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному Жиду, который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о величайшем для него блаженстве; это страдание не совсем понятное, но оттого не меньше страшное. Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем; чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модной причудой» (стр. 554).
Я без малейшего колебания записываюсь в ряды тупой черни и вместе с этой тупой чернью радикально отрицаю и беспощадно осмеиваю то ужасное страдание, над которым так добродушно сокрушается Белинский. На Вечного Жида российский помещик Онегин не похож нисколько, и сравнивать их между собою нет ни малейшей надобности. Вечный Жид, говорят, был так устроен, что никак не мог умереть; вследствие этой странной особенности своего организма он действительно имел полное основание мечтать о смерти, как о величайшем блаженстве. Но Онегин этого основания вовсе не имеет, и фантастическая фигура Вечного Жида, воплотившего в себе такое страдание, которое далеко превышает размеры человеческих сил и человеческого терпения, приплетена тут ни к селу, ни к городу. Белинский сам подозревает, что «онегинское страдание» не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но, по своей великодушней доверчивости, наш критик полагает, что оно тем ужаснее.
Да, действительно ужасно! Таким страданием страдают в водевилях неутешные вдовы, которые во время пьесы плачут о муже и сквозь слезы кокетничают с юным офицером, а перед самым падением занавеси вытирают глазки платочком и объявляют растроганным зрителям в заключительном куплете, что спасительное время и новая любовь исцеляют самые глубокие раны растерзанных вдовьих сердец. У этих милых вдов страдание тоже сидит в самой глубине души, так глубоко, что не может иметь никакого влияния на различные отправления физического организма. Сердце вдовы разбито, но тело ее жиреет и процветает во все свое удовольствие. Простое человеческое страдание, не водевильное и не онегинское, не забирается в такую недосягаемую глубину и вследствие этого разъедает и прожигает насквозь тот организм, в котором оно гнездится. Я должен признаться, что, как грубый реалист, я только это последнее, грубое и не глубокое страдание считаю истинным. Когда же несчастный страдалец спит по восьми часов в сутки, ест, как здоровый бурлак, и толстеет от глубокой печали, тогда я осмеливаюсь утверждать, что этот цветущий мученик — большой шутник, выкидывающий самые уморительные коленца. Посудите сами: не шутник ли этот Онегин? Вздумал нас уверять, что он завидует больным и раненым! Но он нас не обманет. Мы знаем очень хорошо, что зависть возможна только тогда, когда она направлена на такой предмет, которого завидующий человек не может себе присвоить собственными силами. Больной может завидовать здоровому, потому что больной не в состоянии сделаться здоровым по собственному желанию. Нищий может завидовать миллионеру по той же самой причине. Но в обратном направлении зависть не имеет никакого смысла, потому что здоровый человек может, когда ему заблагорассудится, расстроить свое здоровье, а миллионер во всякую данную минуту может превратиться в нищего. Зачем, говорит Онегин, я пулей в грудь не ранен? Ну, не шут ли он гороховый? Это он говорит на Кавказе и говорит в то время, когда Кавказ еще не был покорен и замирен. Да кто же ему мешает поступить юнкером в действующую армию и получить в грудь не только одну пулю, а, пожалуй, даже хоть целую дюжину? Но ему вовсе не хочется иметь в груди пулю; ему желательно только рассуждать об удовольствии быть раненым, о блаженстве тульского заседателя, лежащего в параличе, и о великом несчастье того человека, который молод и чувствует в себе присутствие крепкой жизни. О всех этих предметах он рассуждает совершенно беспрепятственно; доверчивые люди принимают его слова за чистую монету; на него смотрят, как на загадочную личность; его отделяют от толпы не как шута горохового, а как высшую натуру; значит — он катается, как сыр в масле, и сокрушение Белинского над его несуществующими страданиями не имеет решительно никакого основания. Белинский, очевидно, принял Онегина за другого, хоть бы, например, за Бельтова, за того чиновника, который не дослужил до пряжки четырнадцати лет и шести месяцев. Но ведь Бельтов не истратил своей молодости на обольщение записных кокеток; Бельтов не был способен убить друга из низкой трусости; Бельтов никогда не мечтал о приятности иметь в груди пулю и никогда не завидовал ни тульскому заседателю, ни бедному откупщику. Словом, Бельтов так же далек от Онегина, как творец Бельтова далек от Пушкина.
Я решительно не могу объяснить себе, каким образом Белинский смешал эти два совершенно различные типа. Онегин — не что иное, как Митрофанушка Простаков, одетый и причесанный по столичной моде двадцатых годов; у них даже и внешние приемы почти одни и те же. Митрофанушка говорит: не хочу учиться, хочу жениться, а Онегин изучает «науку страсти нежной» и задергивает траурной тафтой всех мыслителей XVIII века. Бельтов, напротив того, вместе с Чацким и Рудиным изображает собою мучительное пробуждение русского самосознания. Это люди мысли и горячей любви. Они тоже скучают, но не от умственной праздности, а оттого, что вопросы, давно решенные в их уме, еще не могут быть даже поставлены в действительной жизни.
Время Бельтовых, Чацких и Рудиных прошло навсегда с той минуты, как сделалось возможным появление Базаровых, Лопуховых и Рахметовых; но мы, новейшие реалисты, чувствуем свое кровное родство с этим отжившим типом; мы узнаем в нем наших предшественников, мы уважаем и любим в нем наших учителей, мы понимаем, что без н и х не могло бы быть и н а с. Но с онегинским типом мы не связаны решительно ничем; мы ничем ему не обязаны; это тип бесплодный, не способный ни к развитию, ни к перерождению; онегинская скука не может произвести из себя ничего, кроме нелепостей и гадостей. Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может выпить их тридцать три. Если б человеческое брюхо не имело пределов, то онегинская скука не могла бы существовать. Белинский любит Онегина по недоразумению, но со стороны Пушкина тут нет никаких недоразумений.
VI
Теперь я начинаю разбирать характер Татьяны и ее отношение к Онегину. Вводя нас в семейство Лариных, Пушкин тотчас старается предрасположить нас в пользу Татьяны; эта, дескать, старшая, Татьяна, пускай будет интересная личность, высшая натура и героиня, а та, младшая, Ольга, пускай будет неинтересная личность, простая натура и пряничная фигурка. Доверчивые читатели, конечно, тотчас предрасполагаются и начинают смотреть на каждый поступок и на каждое слово Татьяны совсем иначе, чем как они стали бы смотреть на такие же поступки и на такие же слова, сделанные и произнесенные Ольгой. Нельзя же в самом деле. Господин Пушкин изволят быть знаменитым сочинителем. Стало быть, если господин Пушкин изволят любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкие читающие люди, обязаны питать к той же Татьяне нежные и почтительные чувства. Однакоже я попробую отрешиться от этих предвзятых чувств любви и уважения. Я взгляну на Татьяну, как на совершенно незнакомую мне девушку, которой ум и характер должны раскрываться предо мною не в рекомендательных словах автора, а в ее собственных поступках и разговорах.
Первый поступок Татьяны — ее письмо к Онегину. Поступок очень крупный и до такой степени выразительный, что в нем сразу раскрывается весь характер девушки. Надо отдать полную справедливость Пушкину: характер выдержан превосходно до конца романа; но здесь как и везде, Пушкин понимает совершенно превратно те явления, которые он рисует совершенно верно. Представьте себе живописца, который, желая нарисовать цветущего юношу, взял бы себе в натурщики чахоточного больного на том основании, что у этого больного играет на щеках очень яркий румянец. Точно так поступает и Пушкин. В своей Татьяне он рисует с восторгом и с сочувствием такое явление русской жизни, которое можно и должно рисовать только с глубоким состраданием или с резкой иронией. Что я не клевещу на Пушкина, приписывая ему восторг и сочувствие, это я могу доказать многочисленными цитатами. На первый случай достаточно будет привести XXXI строфу III главы:
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор
И увлекательный, и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный
Или разыгранный «Фрейшиц»
Перстами робких учениц.
Чтобы читатели поняли последнюю фразу, я должен им напомнить, что, как говорит Пушкин в XXVI строфе, письмо Татьяны было написано по-французски. Посмотрим теперь, что это за письмо и при каких условиях Татьяна повествовала необходимость писать к Онегину.
Онегин, во все продолжение романа, был у Лариных три раза. В первый раз тогда, когда Ленский его представил и тогда их обоих угощали вареньем и брусничной водой. Во второй раз тогда, когда он получил письмо Татьяны. И в третий раз на именинах Татьяны. Передавая Онегину приглашение Лариных на именины, Ленский говорит ему:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Значит, до именин было действительно только два визита, и мы не имеем никакой возможности предполагать, чтобы некоторые визиты Онегина были пройдены молчанием в романе. Значит, Татьяна влюбилась в Онегина сразу и решилась к нему написать письмо, проникнутое самой страстной нежностью, видевши его всего только один раз. Но что же такое произошло во время этого первого свиданья? В каких поступках, в каком разговоре обнаружились обаятельные особенности онегинского ума и характера?
Если бы «Евгений Онегин» был сочинен мною, то, может быть, я был бы в состоянии отвечать на эти вопросы, которые неизбежно должны возникнуть в уме каждого внимательного читателя, не способного удовлетворяться одной звучностью и плавностью стиха. Но так как я неповинен в сочинении «Евгения Онегина», то, в ответ на эти неизбежные вопросы, я могу только выписать рассказ об этом первом визите, погубившем прелестную Татьяну во цвете юных лет.
Явились; им расточаны
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.
(Глава III. Строфа III.)
Затем следует пять строк точек, а потом: «они дорогой самой краткой домой летят во весь опор». Летя домой, они разговаривают между собой, и из их разговора мы узнаем, что Онегин выпил некоторое количество брусничной воды и боится от нее дурных последствий. Пожаловавшись на брусничную воду, Онегин опрашивает: «скажи, которая Татьяна?» Ленский отвечает:
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна.
Знакомство было, очевидно, самое поверхностное, когда Онегин даже не знает, «к о т о р а я Татьяна». Легко может быть, что Онегин не сказал с Татьяной ни одного слова; это обстоятельство тем более правдоподобно, что Ленский называет Татьяну молчаливой; по всей вероятности, разговором владела постоянно старуха Ларина; Онегин на возвратном пути говорит о ней:
Но очень милая старушка.
Значит, он только об одной старухе и успел составить себе довольно определенное понятие. А в разговоре с простой старухой он, очевидно, не мог высказать ничего такого замечательного, что оправдывало бы или объясняло бы возникновение внезапного и страстного чувства в душе умной и рассудительной девушки. Как бы то ни было, результатом первого, совершенно поверхностного знакомства Татьяны с Онегиным оказалось то знаменитое письмо, которое Пушкин свято бережет и читает с тайною тоскою. Татьяна начинает свое письмо довольно умеренно; она выражает желание видеть Онегина хоть раз в неделю, чтоб только слышать его речи, чтобы молвить ему слово и чтобы потом день и ночь думать о нем до новой встречи. Все это было бы очень хорошо, если бы мы знали, какие это речи так понравились Татьяне и какое слово она желает молвить Онегину. Но, к сожалению, нам достоверно известно, что Онегин не мог говорить старухе Лариной никаких замечательных речей и что Татьяна не вымолвила ни одного слова. Если же она желает молвить слова подобные тем, которыми она наполняет свое письмо, то ей, право, незачем приглашать Онегина в неделю раз, потому что в этих словах нет никакого смысла и от них не может быть никакого облегчения ни тому, кто их произносит, ни тому, кто их выслушивает. Татьяна, по-видимому, предчувствует, что Онегин не станет ездить к ним раз в неделю, чтобы говорить ей речи и выслушивать слова; вследствие этого начинаются в письме нежные упреки; уж если, дескать, не будете вы, коварный тиран, ездить к нам раз в неделю, так незачем было и показываться у нас; без вас я бы, может быть, сделалась верной женой и добродетельной матерью, а теперь я, по вашей милости, жестокий мужчина, пропадать должна. Все это, разумеется, изложено самым благородным тоном и втиснуто в самые безукоризненные четырехстопные ямбы. Ни за кого я не хочу замуж идти, продолжает Татьяна, а за тебя даже очень хочу, потому что «то в высшем суждено совете… то воля неба, я твоя» и потому что ты мне послан Богом и ты мой хранитель по гроб моей жизни. Тут Татьяна как будто спохватилась и, вероятно, подумала про себя: что ж это я, однако, за глупости пишу, и с какой стати я это так раскутилась? Ведь я его всего-навсего только один раз видела. Так нет же вот, продолжает она: не один раз; не такая же я, в самом деле, шальная дура, чтобы вешаться на шею первому встречному: я влюбилась в него потому, что он — мой идеал, а я уж давно мечтаю об идеале, значит, я видела его много раз; волосы, усы, глаза, нос — все, как есть, так, как должно быть у идеала; и, кроме того, в высшем совете так суждено; и, кроме того, во всех романах г-жи Коттен и г-жи Жанлис так делается; значит, не о чем и толковать: влюблена я в него до безумия, буду ему верна в сей жизни и в будущей, буду о нем мечтать денно и нощно и напишу к нему такое пламенное письмо, от которого затрепещет самое бесчувственное сердце. Затем Татьяна бросает в сторону последние остатки своего здравого смысла и начинает взводить на несчастного Онегина самые неправдоподобные напраслины. «Ты в сновиденьях мне являлся».
— Да я-то чем же виноват? — подумает Онегин. — Мало ли что ей могло присниться? Не отвечать же мне за всякую глупость, какую она во сне видела!
Давно… нет, это был не сон!
Вот тебе раз! Даже не сон. Теперь она еще нагородит, что я к ней наяву приходил. И она действительно городит это:
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души
Это с вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете бедным и усердно молитесь Богу, но только зачем же вы сочиняете небылицы? Отроду я никогда с вами не говорил ни в тиши, ни в шуме, и вы сами это очень хорошо знаете. — С каждой дальнейшей строчкой письма Татьяна завирается хуже и хуже, по русской пословице: чем дальше в лес, тем больше дров:
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Да перестаньте же, наконец, Татьяна Дмитриевна! Ведь вы уж до галлюцинаций договорились. Во-первых, я совсем не виденье, а ваш сосед, русский дворянин и помещик Онегин, приехавший в деревню получить наследство от дяди. Это дело совершенно практическое, и никакие милые видения подобными делами не занимаются. Во-вторых, за каким я дьяволом буду мелькать по ночам в прозрачной темноте и тихо приникать к вашему изголовью! Мельканье — дело очень скучное, и бесполезное; а тихое приникание привело бы в неописанный ужас вашу добрую мамашу, которую я от души уважаю за ее простоту. И, наконец, могу вам объявить раз навсегда, что я по ночам не мелькаю, а сплю, тем более, что и все мое интересное страдание, по справедливому замечанию Белинского, состоит в том, что я ночью сплю, а днем зеваю. Значит, мелькать мне некогда, и я могу вам сказать по совести, что если бы вы подражали моему благоразумному примеру, то есть крепко бы спали по ночам, вместо того чтобы мечтать о писаных красавчиках и читать раздражающие романчики, то вы никогда не стали бы уверять меня в том, что вы видали меня во сне, что мой голос раздавался в вашей душе и что я приникаю к вашему изголовью. Вы бы тогда понимали очень хорошо, что все это — пустая, смешная и бестолковая болтовня.
Было бы очень недурно и очень полезно для Татьяны, если бы Онегин отвечал ей словесно или письменно в том резко насмешливом и холодно трезвом тоне, в каком я написал от его лица несколько фраз. Такой ответ, конечно, заставил бы Татьяну пролить несметное количество слез; но если только мы допустим предположение, что Татьяна была неглупа от природы, что ее врожденный ум не был еще окончательно истреблен бестолковыми романами и что ее нервная система не была вполне расстроена ночными мечтаниями и сладкими сновидениями, — то мы придем к тому убеждению, что горькие слезы, пролитые ею над прозаическим ответом жестокого идеала, должны были бы произвести во всей ее умственной жизни необходимый и чрезвычайно благодетельный переворот. Глубокая рана, нанесенная ее самолюбию, мгновенно истребила бы ее фантастическую любовь к очаровательному соседу. Что ж, подумала бы она, должно быть, это в самом деле не он мелькал в прозрачной темноте. А если не он, так кто же? Да, должно быть, никто не мелькал. И зачем это я ему так много глупостей написала? И зачем это я сама так много о разных глупостях думаю? И зачем это я по ночам мечтаю? И зачем это я такие книги читаю, в которых пишут только о мечтаниях, мельканиях и приниканиях?
Татьяна увидела бы ясно, что ее любовь к Онегину, лопнувшая, как мыльный пузырь, была только подделкой любви, смешной и жалкой пародией на любовь, бесплодной и мучительной игрой праздного воображения; она поняла бы в то же время, что эта ошибка, стоившая ей многих слез и заставляющая ее краснеть от стыда и досады, была естественным и необходимым выводом из всего строя ее понятий, которые она черпала с страстной жадностью из своего беспорядочного чтения; она сообразила бы, что ей надо застраховать себя на будущее время от повторения подобных ошибок и что для такого застрахования ей необходимо изломать и перестроить заново весь мир ее идей. Необходимо или отыскать себе другое, здоровое чтение, или, по крайней мере, прислониться к действительной жизни, к какому-нибудь хорошему и разумному делу, которое могло бы постоянно поддерживать в ней умственную трезвость и отвлекать ее от туманной области наркотических мечтаний. Такое хорошее и разумное дело отыскать нетрудно; намек на него существует даже в нелепом письме Татьяны; она говорит, что помогает бедным, — ну, и помогай, но только займись этим делом серьезно и смотри на него, как на постоянный и любимый труд, а не как на дешевое средство стереть с своей совести кое-какие микроскопические грешки. Имей в виду при этом помогании действительные потребности нуждающихся людей, а не то, чтобы подать бедному копеечку и потом погладить себя за это по головке. Словом, несмотря на пустоту и бесцветность той жизни, на которую была осуждена Татьяна с самого детства, наша героиня все-таки имела возможность действовать в этой жизни с пользой для себя и для других, и она непременно принялась бы за какую-нибудь скромную, но полезную деятельность, если бы нашелся умный человек, который бы энергическим словом и резкой насмешкой выбросил ее вон из ядовитой атмосферы фантастических видений и глупых романов.
Но, разумеется, Онегин, стоящий на одном уровне умственного развития с самим Пушкиным и с Татьяной, не мог своим влиянием охладить беспорядочные порывы ее разгоряченного воображения. Онегину очень понравилось сумасбродное письмо фантазирующей барышни.
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он…
(Глава IV. Строфа XI.)
Онегину представлялась возможность расположить свои отношения к Татьяне по одному из четырех следующих планов: во-первых, он мог на ней жениться; во-вторых, он в своем объяснении с ней мог осмеять ее письмо; в-третьих, он в этом же объяснении мог деликатно отклонить ее любовь, наговоривши ей при сем удобном случае множество любезностей насчет ее прекрасных качеств; в-четвертых, он мог поиграть с нею, как кошка играет с мышкою, то есть мог измучить, обесчестить и потом бросить ее.
Жениться Онегин не хотел, и он сам очень наивно объясняет Татьяне причину своего нежелания: «Я, сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Соблазнять ее он тоже не желает, отчасти потому, что он не подлец, а отчасти и потому, что это дело ведет за собою слезы, сцены и множество неприятных хлопот, особенно когда действующим лицом является такая энергическая и восторженная девушка, как Татьяна. В онегинские времена уровень нравственных требований стоял так низко, что Татьяна, вышедши замуж, в конце романа считает своей обязанностью благодарить Онегина за то, что он поступил с ней благородно. А все это благородство, которого Татьяна никак не может забыть, состояло в том, что Онегин не оказался в отношении к ней вором. Итак, два плана, первый и четвертый — отвергнуты. Второй план для Онегина неосуществим: осмеять письмо Татьяны он не в состоянии, потому что он сам, подобно Пушкину, находил это письмо не смешным, а трогательным. Насмешка показалась бы ему профанацией и жестокостью, потому что ни Онегин, ни Пушкин не имеют понятия о той высшей и вполне сознательной гуманности, которая очень часто заставляет мыслящего человека произнести горькое и оскорбительное слово. Такое слово обожгло бы Татьяну, но оно было бы для нее несравненно полезнее, чем все сладости, рассыпанные в речи Онегина. Но время Онегина не было временем той «gottliche Gronheit» {божественной грубости. Ред.}, которую совершенно справедливо превозносит Берне. Онегин решился поднести Татьяне золоченую пилюлю, которая не могла подействовать на нее благотворно именно потому, что она была позолочена. Речь Онегина, занимающая в романе пять строф, вся целиком, как будто бы нарочно, направлена к тому, чтобы еще больше закружить и отуманить бедную голову Татьяны. Я, говорит Онегин, —
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила,
(тон довольно султанский!)
Давно умолкнувшие чувства.
С самого начала Онегин делает грубую и непоправимую ошибку: он принимает любовь Татьяны за действительно существующий факт; а ему, напротив того, надо было сказать и доказать ей, что она его совсем не любит и не может любить, потому что с первого взгляда люди влюбляются только в глупых романах…
(продолжает Онегин)
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной.
Это все за бестолковое письмо; разумеется, после этих слов сама Татьяна будет смотреть на свое послание, как на образцовое произведение, отразившее в себе самое неподдельное чувство, самый замечательный ум. Эти лестные и, к сожалению, искренние слова Онегина должны подействовать на бедную Татьяну так, как подействовала на несчастного Дон Кихота его победа над цырюльником и завоевание медного таза, который немедленно был переименован в шлем Мамбрина. Добывши себе трофей, Дон Кихот, очевидно, должен был утвердиться в том печальном заблуждении, что он — действительно странствующий рыцарь и что он действительно может и должен совершать великие подвиги. Выслушав комплименты Онегина, Татьяна точно так же должна была утвердиться в том столь же печальном заблуждении, что она очень влюблена, очень страдает и очень похожа на несчастную героиню какого-нибудь раздирательного романа. Каждое дальнейшее слово Онегина подносит несчастному Дон Кихоту новые шлемы Мамбрина. Онегин объявляет своей собеседнице «без блесток мадригальных», что он нашел в ней свой «прежний и д е а л», но что, к крайнему своему сожалению, он, по дряблости своего сердца, никак не может воспользоваться этой приятной находкой:
Их вовсе не достоин я.
. . . . . . . . . . .
…И того ль искали
Вы чистой пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
. . . . . . . . . . .
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Длинный хвалебный гимн Онегина заканчивается плоским и бесцветным нравоучением, которое находится в непримиримом разладе со всеми предыдущими комплиментами и которое вследствие этого, разумеется, будет пропущено Татьяною мимо ушей:
Не всякий вас, как я, поймет…
К беде неопытность ведет.
— К какой же беде? — должна подумать Татьяна. — Благодаря моей неопытности я написала к нему письмо, в котором он нашел очень много ума и очень много простоты; благодаря моей неопытности я раскрыла перед ним мои совершенства, я обнаружила перед ним чистую пламенность моей души, я попала в прежние идеалы и возбудила в нем любовь брата и, может быть, другую любовь, еще более нежную. А не напиши я этого письма, так ничего бы этого не случилось. А если он говорит, что не всякий меня поймет, то ведь мне до всякого о нет никакого дела. Сердце мое наполнено навсегда моей несчастной любовью, и я до дверей холодной могилы буду влачить в моем истерзанном сердце эту несчастную любовь по тернистому пути моей мучительной жизни.
Что Татьяна рассуждает именно таким образом и что ее мысли облекаются в ее голове именно в такие напыщенные формы, — это мы видим, между прочим, из тех размышлений, которыми она занимается ночью после дня своих именин, когда она сидит
Озарена лучом Дианы. —
. . . . . . . . . . . .
Погибну, Таня говорит:
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать.
Голова несчастной девушки до такой степени засорена всякой дрянью и до такой степени разгорячена глупыми комплиментами Онегина, что нелепые слова — «гибель от него любезна» — произносятся с глубоким убеждением и очень добросовестно проводятся в жизнь. Забыть Онегина, прогнать мысль о нем какими-нибудь дельными занятиями, подумать о каком-нибудь новом чувстве и вообще превратиться какими-нибудь средствами из несчастной страдалицы в обыкновенную, здоровую и веселую девушку, — все это возвышенная Татьяна считает для себя величайшим бесчестьем; это, по ее мнению, значило бы свалиться с неба на землю, смешаться с пошлой толпой, погрузиться в грязный омут житейской прозы. Она говорит, что «гибель от него любезна», и потому находит, что гораздо величественнее страдать и чахнуть в мире воображаемой любви, чем жить и веселиться в сфере презренной действительности. И в самом деле, ей удается довести себя слезами, бессонными ночами и печальными размышлениями под лучом Дианы до совершенного изнеможения.
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
И все это в значительной степени было результатом ее разговора с Онегиным.
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит.
Читатель видит теперь, что утонченная любезность Онегина принесла самые богатые плоды.
VII
После отъезда Онегина из деревни, Татьяна, стараясь поддержать в себе неугасимый огонь своей вечной любви, посещает неоднократно кабинет уехавшего идеала и читает с большим вниманием его книги. С особенным любопытством вглядывается и вдумывается она в те страницы, на которых рукою Онегина сделана какая-нибудь отметка. Таким образом она прочитала сочинения Байрона и несколько романов,
И современный человек
Изображен довольно верно.
«И ей открылся мир иной», объявляет нам Пушкин. Слова «мир иной» должны, повидимому, обозначать собой новый взгляд на человеческую жизнь вообще и на личность Онегина в особенности. Затем Пушкин продолжает:
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава Богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
(Глава VII. Строфы. XXIV, ХХУ.)
Невозможно понять, зачем Пушкин навязал Татьяне все эти критические размышления и зачем он хочет нас уверить, что ей открылся мир иной. Этот «мир иной» и эти размышления о москвиче в гарольдовом плаще не обнаруживают ни малейшего влияния ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ее поступки. До открытия нового мира она воображала себе, что влюблена по гроб жизни; после своего открытия она остается при том же самом убеждении. До открытия нового мира она беспрекословно повиновалась мамаше; и после открытия она продолжает повиноваться также беспрекословно. Это с ее стороны очень похвально, но для того чтобы повиноваться мамаше в самых важных случаях жизни, не было ни малейшей надобности открывать новый мир, потому что и старый наш мир основан целиком на смирении и послушании.
Пока Татьяна в кабинете Онегина открывает новые миры, один из жителей старого мира советует ее мамаше повезти дочь «в Москву, на ярмарку невест». Ларина соглашается с этой мыслью, и когда Татьяна узнает об этом решении, тогда она со своей стороны не представляет никаких возражений. Надо полагать, что «ярмарка невест» занимает очень почетное место в том новом мире, который открыла Татьяна. Но если новый мир допускает ярмарку невест, то любопытно было бы узнать, чем он отличается от старого мира и какая надобность была его открывать?
В Москве Татьяна ведет себя именно так, как обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливой родительницей на ярмарку невест. Разумеется,
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам,
И в сумрак липовых аллей, —
Туда, где он явился ей.
(Глава VII. Строфа LIII.)
Но ведь это все пустые слова, и наивен был бы тот читатель, который бы принял их за чистую монету. Куда бы она ни стремилась мечтой — это решительно все равно. Тело ее, затянутое в корсет, во всяком случае находится там, где ему велят находиться, и делает именно те движения, которые ему прикажут делать. В то время когда она стремится в сумрак липовых аллей, две тетушки предписывают ей смотреть налево, на толстого генерала, и она смотрит. Потом ей приказывают выйти замуж за этого толстого генерала, и она выходит за него замуж.
Если все эти действия находятся в строгом согласии с законами ее нового мира, то я осмеливаюсь думать, что она с большим удобством могла бы избавить себя от труда производить свои открытия, потому что все эти открытия были давно уже сделаны самыми отдаленными ее предками. Я полагаю, что в умственной жизни Татьяны онегинские книжки не произвели никакого переворота. Татьяна до конца романа остается тем самым рыцарем печального образа, каким мы видели ее в ее письме к Онегину. Ее болезненно развитое воображение постоянно создает ей поддельные чувства, поддельные потребности, поддельные обязанности, целую искусственную программу жизни, и она выполняет эту искусственную программу с тем поразительным упорством, которым обыкновенно отличаются люди одержимые какой-нибудь мономанией. Она вообразила себе, что влюблена в Онегина, и действительно влюбила себя в него, начала пылать страстью и делать глупости, подобные кувырканьям влюбленного Дон Кихота в горах Сиерры-Морены. Потом она вообразила себе, что ее жизнь разбита и вследствие этого начала худеть и бледнеть. Потом, видя что ей не удается умереть, она вообразила себе, что теперь она ко всему равнодушна; тогда она отдала себя в полное распоряжение своих родственниц, которые привезли ее на ярмарку невест и там сбыли ее, как хороший товар, толстому генералу. Очутившись в руках своего нового хозяина, она вообразила себе, что она превращена в украшение генеральского дома; тогда все силы ее ума и ее воли направились к той цели, чтобы на это украшение не попало ни одной пылинки. Она поставила себя под стеклянный колпак и обязала себя простоять под этим колпаком в течение всей своей жизни. И сама она смотрит на себя со стороны и любуется своей неприкосновенностью и твердостью своего характера. Мне, думает она, очень скучно под колпаком, а я все-таки из-под него не выйду ни для кого на свете, потому что я — украшение генеральского дома; а генерал приобрел меня не затем, чтобы я жила в свое удовольствие.
Онегин встречается с нею в Петербурге в то время, когда она, драпируясь в свою неприкосновенность, уже украшает своею добродетельной особой жилище толстого генерала. Видя, что украшение генеральского дома блестит самыми яркими красками, Онегин проникается предосудительным желанием вытащить это украшение из-под стеклянного колпака. Но украшение не трогается с места и, оставаясь под колпаком, читает оттуда предприимчивому денди такую проповедь, которая доставляет ему очень мало удовольствия. Этой проповедью, как известно, заканчивается весь роман. Знаменитый монолог Татьяны заключает в себе следующий смысл: зачем вы не влюбились в меня, прежде? Теперь вы ухаживаете за мной потому, что я превратилась в блестящее украшение богатого дома. Я вас все-таки люблю, но прошу вас убираться к чорту; свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования.
Этот монолог доказывает ясно, что Татьяна и Онегин друг друга стоят: оба они до такой степени исковеркали себя, что совершенно потеряли способность думать, чувствовать и действовать по-человечески. Монолог Татьяны отличается самой полной откровенностью, и именно по этой причине он весь составлен из непримиримых противоречий. Подозревая Онегина в мелком тщеславии, она очевидно отказывает ему в своем уважении, и в то же время, не уважая его, она его любит, и в то же время, любя его, она его отталкивает; отталкивая его из уважения к требованиям света, она презирает «всю эту ветошь маскарада»; презирая всю эту ветошь, она занимается ею с утра до вечера. Все эти противоречия доказывают совершенно очевидно, что она ничего не любит, ничего не уважает, ничего не презирает, ни о чем не думает, а просто живет со дня на день, подчиняясь заведенному порядку и разгоняя свою непроходимую скуку разными крошечными подобиями чувства и мыслей, такими подобиями, которые могут выдавить из прекрасных очей несколько слезинок, но которые никогда не создадут ни одного решительного, поступка. Само по себе чувство Татьяны мелко и дрябло, но по отношению к своему предмету это чувство точь-в-точь такое, каким оно должно быть; Онегин — вполне достойный рыцарь такой дамы, которая сидит под стеклянным колпаком и обливается горючими слезами; другого, более энергического чувства Онегин даже не выдержал бы; такое чувство испугало и обратило бы в бегство нашего героя; безумная и несчастная была бы та женщина, которая из любви к Онегину решилась бы нарушить величественное благочиние генеральского дома. Сам Онегин, вероятно, отшатнулся бы от нее, как от неистовствующей фурии, и уже во всяком случае Онегин поступил бы с нею по той программе, которую он наивно раскрыл перед Татьяной в липовой аллее, то есть, привыкнув, разлюбил бы тотчас. Стоит же в самом деле затевать в генеральском доме скандал для того, чтобы доставить Онегину несколько приятных минут и попользоваться его благосклонностью до тех пор, пока он не привыкнет!
Татьяна задает Онегину вопрос: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе, и когда я любила вас? Этот вопрос поставлен очень удачно, и если бы Онегин хотел и умел отвечать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать: оттого что люди, подобные мне, способны только шутить и забавляться с женщинами. Когда вы были девушкой, тогда мне предстояла необходимость принять на себя, в отношении к вам, серьезные обязанности; мне надо было тогда взять на себя заботу о вашем счастье, то есть об удовлетворении всех ваших материальных и умственных потребностей; раз принявши на себя эту заботу, я бы уже не имел возможности сложить ее на кого-нибудь другого; а такая перспектива приводила меня в ужас, потому что я не способен ни к какому серьезному делу, не способен даже заботиться о материальном и умственном благосостоянии той женщины, которая доставляет мне приятные минуты. Теперь дело совсем другое. Теперь я могу завести с вами веселую интрижку, с таинственными свиданьями, с пламенными объятиями и без всяких будничных, то есть серьезных и спокойных дружеских отношений. Эта интрижка будет продолжаться месяцев пять-шесть, и потом я засвидетельствую вам мое почтение, не обращая никакого внимания на то, любите ли вы меня, или нет.
Когда Онегин писал к Татьяне страстные письма и когда он у нее в доме бросился к ее ногам, тогда он, разумеется, добивался только интрижки. Пушкину представлялся очень удобный случай измерить глубину и силу онегинской любви. Но Пушкин, конечно, не воспользовался этим случаем, потому что он не имел ни малейшего желания выставлять напоказ самые мелкие и дрянные стороны онегинского характера. Это полное разоблачение ничтожной личности было бы неизбежно, если бы на месте Татьяны стояла энергическая женщина, любящая Онегина действительной, а не придуманной любовью. Если бы эта женщина бросилась на шею к Онегину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но, во что бы то ни стало, увези меня прочь от мужа, потому что я не хочу и не могу играть с ним подлую комедию, — тогда восторги Онегина в одну минуту охладели бы очень сильно. Может быть, он посовестился бы обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою несостоятельность перед серьезной заботой; может быть, он не осмелился бы отшатнуться тотчас от женщины, перед которой он за минуту перед тем сам стоял на коленях; может быть, даже, чувствуя невозможность отступления, он решился бы, скрепя сердце, увезти эту женщину куда-нибудь за границу, но между невольным похитителем и несчастной жертвой завязались бы немедленно такие скрипучие и мучительные отношения, которых бы не выдержала ни одна порядочная женщина. Дело кончилось бы тем, что она убежала бы от него, выучившись презирать его до глубины души; и, разумеется, бедной, опозоренной женщине пришлось бы или умереть в самой ужасной нищете, или втянуться поневоле в самый жалкий разврат. Если бы Пушкин захотел и сумел написать такую главу, то она, мне кажется, обрисовала бы онегинский тип ярче, полнее и справедливее, чем обрисовывает его теперь весь роман. Но для того, чтобы подвергнуть онегинский тип такому жестокому и вполне заслуженному унижению, самому Пушкину, очевидно, было необходимо стоять выше этого типа и относиться к нему совершенно отрицательно.
VIII
Белинский посвятил характеристике Татьяны целую отдельную статью. В этой статье он, по своему обыкновению, высказал много превосходных мыслей, которые даже теперь, по прошествии двадцати лет, могут еще изумлять и приводить в ужас неисправимых филистеров. Но, отдавая полную справедливость превосходным частностям этой статьи, я должен заметить, что, по своей основной идее, по своему взгляду на характер Татьяны, она оказывается совершенно несостоятельной. Белинский ставит Татьяну на пьедестал и приписывает ей такие достоинства, на которые она не имеет никакого права и которыми сам Пушкин, при своем поверхностном и ребяческом взгляде на жизнь вообще и на женщину в особенности, не хотел и не мог наделить любимое создание своей фантазии.
Главная причина неосновательного пристрастия Белинского к Татьяне заключается, по моему мнению, в том, что Белинскому приходится защищать как самого Пушкина, так и Татьяну против тупых и пошлых нападений тогдашнего филистерства. В увлечении полемики трудно сохранять постоянно трезвость критического взгляда. Опровергая глупые замечания филистеров, Белинский вдается часто в противоположную крайность. Филистеры говорят, например: такой-то поступок отвратителен. Белинский, в пику им, утверждает, что он великолепен. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что филистеры, конечно, городят ужасный вздор, но что и Белинский совершенно неправ, потому что в разбираемом поступке нет ничего ни отвратительного, ни великолепного. Это влияние филистерских толков на процесс мысли, совершавшийся в голове великого бойца Белинского, выразилось очень ясно во многих местах его критических статей о Пушкине. Вот, например, как рассуждает Белинский о письме Татьяны к Онегину:
«Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный, но его источник заключается не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатной барыней, для нее совершенно исчезла возможность таких наивно великодушных движений сердца». Затем следует несколько эстетических замечаний о той форме, в какой выразилось чувство Татьяны. Потом начинаются сражения с филистерством. «Замечательно, — продолжает Белинский, — с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо; видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал».
Выдержав несколько строф из «Онегина», Белинский продолжает: «Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом — и в чем же? — в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование, — что у нее есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом! Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа, в том, что она — женщина, а не деревяшка, выточенная по подобию женщины» (стр. 591, 593, 595).
Благодаря ослиным воплям филистеров весь вопрос о Татьяне сдвинут в сторону и поставлен совершенно неправильно. Белинский доказывает, что, любя Онегина, Татьяна имела полное право написать к нему письмо. Это не подлежит сомнению, и против этого могут спорить только филистеры. Но сущность вопроса состоит совсем не в этом, а в том: может ли и должна ли умная девушка влюбляться в мужчину с первого взгляда? Белинский смотрит на Татьяну очень благосклонно за то, что у нее оказалось в груди сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом. Это с ее стороны очень похвально, но, увлекшись этим достоинством ее личности, Белинский совершенно забывает справиться о том, имелось ли в ее красивой голове достаточное количество мозга, и если имелось, то в каком положении находился этот мозг. Если бы Белинский задал себе эти вопросы, то он немедленно сообразил бы, что количество мозга было весьма незначительное, что это малое количество находилось в самом плачевном состоянии и что только это плачевное состояние мозга, а никак не присутствие сердца, объясняет собою внезапный взрыв нежности, проявившийся в сочинении сумасбродного письма. Белинский благодарит Татьяну за то, что она — женщина, а не деревяшка; тут наш критик, очевидно, хватил через край и, замахнувшись на филистеров, сам потерял равновесие. Разве в самом деле надо непременно быть деревяшкой, для того чтобы, после первого свидания с красивым денди, не упасть к его ногам? И разве быть женщиной — значит писать к незнакомым людям раздирательные письма?
Белинский с замечательной силой анализа очерчивает тот тип, к которому принадлежит Татьяна; он называет этот тип — типом идеальных дев; он подмечает все его смешные стороны и относится к нему совершенно отрицательно. Читая это описание идеальных дев, вы ожидаете, что он немедленно подведет Татьяну под эту категорию и осмеет самым беспощадным образом все ее глупые вздыхания об Онегине. Не тут-то было! Белинский напрягает все силы своего великого таланта, чтобы провести резкую разделительную черту между полчищем идеальных дев и личностью пушкинской героини; но эта задача оказывается неразрешимой, и все аргументы Белинского остаются очень неубедительными по той простой причине, что они не находят себе никакой опоры в фактах самого романа. «Татьяна, — говорит Белинский, — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастьи взаимности, любовь такой женщины — ровное, светлое пламя, в противном случае — упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этой наружной холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна» (стр. 582).
Да, такова Татьяна, сочиненная Белинским, но совсем не такова Татьяна Пушкина. Вся глубина пушкинской Татьяны состоит в том, что она сидит по ночам под лучом Дианы. Вся ее исключительность — в том, что она бродит по полям
С французской книжкою в руках.
Вся ее страстность выкипает без остатка в одном восторженном письме. Написавши это письмо, она находит, что она заплатила достаточную дань молодости и что ей затем остается только превратиться в неприступную светскую даму. Во всем романе мы видим только два поступка Татьяны: во-первых, ее письмо, во-вторых, ее заключительный монолог; только по этим двум моментам в ее жизни мы должны составлять себе понятие о ее характере; в антракте между двумя решительными моментами она только мечтает, худеет, грустит, тоскует и вообще ведет себя, с одной стороны, как идеальная дева, а с другой стороны, как пассивный товар, который можно везти на ярмарку и продавать лицом. Что же касается до двух выдающихся точек в ее жизни, то, основываясь на них, можно только применить к Татьяне известные слова Пушкина:
Блажен, кто вовремя созрел.
В молодости своей Татьяна отличалась эксцентрическими выходками; а созревши, она превратилась в воплощенную солидность. Чрез такие превращения проходят самые отчаянные филистеры, которые во время своего студенчества бывают обыкновенно самыми разбитными буршами. Возможность этого превращения превосходно понимает и сам Белинский: «Многие из них, — говорит он об идеальных девах, — непрочь бы от замужества, и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения и из идеальных дев делаются самыми простыми бабами» (стр. 575). Татьяна сделалась не самой простой бабой, а самой блестящей дамой. Разница, кажется, не очень значительна, и превращение разбитного бурша в солидного филистера так же несомненно во втором случае, как и в первом.
Что случилось бы с Татьяной, если бы она вышла замуж по страстной любви, — об этом мы ровно ничего не знаем, но мы можем заметить, что у самого Белинского на этот счет встречается очень любопытное противоречие. Рассматривая характер Татьяны отдельно и переделывая его по своему произволу, Белинский утверждает, что она может быть превосходной супругой и образцовой матерью. Но, анализируя тот же характер в связи с характером Онегина, Белинский приходит к тому заключению, что Онегин не должен был жениться на Татьяне, потому что Татьяна была бы с ним несчастнейшей женщиной и сделалась бы для него невыносимой обузой. «Что бы нашел он потом в Татьяне? — спрашивает Белинский. — Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато скучнее» (стр. 553). Вот видите, как неудобно умному человеку (Белинский считает Онегина за умного человека) жениться на Татьяне. Куда ни кинь — все клин. А между тем она полагает, что влюблена в него и притом влюблена на всю жизнь, и ни о какой другой любви не хочет слышать. Если, вышедши замуж за этого любимого человека, она неизбежно должна сделаться для него невыносимой обузой, то, спрашивается, какие же условия необходимы для того, чтобы она могла развернуть свою способность быть превосходной женой и образцовой матерью? По какому рецепту должен быть составлен тот человек, в которого она могла бы влюбиться и которого, кроме того, она могла бы осчастливить своею любовью? Кажется мне, что Татьяна никого не может осчастливить и что, если бы она вышла замуж не за толстого генерала, а за простого смертного, желавшего найти в ней не украшение дома, а доброго и умного друга, то ее семейная жизнь расположилась бы по следующей программе, очень остроумно составленной Белинским для некоторых идеальных дев: «Ужаснее всех других, — говорит Белинский, — те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития, при испорченности фантазии, они создают свой идеал брачного союза, — и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования» (стр. 575). Именно так; и поэтому идеальной деве Татьяне Дмитриевне Лариной всего лучше и безопаснее было отправиться на ярмарку невест, чтобы потом превратиться в самую простую бабу или в самую блестящую светскую даму.
Думать, что Пушкин способен создать тип образцовой жены и превосходной матери, значит положительно возводить напраслину на нашего резвого любимца муз и граций. В такой серьезной идее Пушкин решительно неповинен. На женщину он смотрит исключительно с точки зрения ее миловидности. «Женщины, — говорит он в одном письме, — не имеют характера; они имеют страсти в молодости; оттого нетрудно и выводить их» («Материалы для биографии и оценки произведений А. Пушкина», стр. 135). В браке он видит только «ряд утомительных картин, роман во вкусе Лафонтена». К слову «женат» — у него есть непременно две постоянные рифмы «халат» и «рогат». За женитьбой, по его мнению, неизбежно следует опошление; а те люди, которые способны опошлиться, оказываются самыми скверными мужьями и живут со своими женами, как кошка с собакой. Действительно, надо быть высокоразвитым человеком, надо быть фанатиком великой идеи и плодотворного труда, чтобы понять и выразить всю бесконечную поэзию постоянной любви. У нас все романы обыкновенно оканчиваются там, где начинается семейная жизнь молодых супругов. Доведя своего героя до свадьбы, романист прощается с ним навсегда. Когда выводится в романе брачная чета, то она выводится или затем, чтобы изобразить бури семейной жизни, или затем, чтобы нарисовать сонное царство, вроде «Старосветских помещиков».
IX
В начале этой статьи я привел несколько восторженных отзывов Белинского об огромном историческом и общественном значении «Евгения Онегина». Теперь, разобрав главные характеры романа, я могу решить, по моему крайнему разумению, вопрос о том, оправдываются ли эти восторженные отзывы Белинского действительными достоинствами «самого задушевного произведения» Пушкина? Белинский говорит, что «Онегина» можно назвать «энциклопедией русской жизни». Эта поэма была, по его мнению, «актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него! Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным» (стр. 605).
Если сознание общества должно состоять в том, чтобы общество отдавало себе полный и строгий отчет в своих собственных потребностях, страданиях, предрассудках и пороках, то «Евгений Онегин» ни в каком случае и ни с какой точки зрения не может быть назван актом сознания. Если движение общества вперед должно, состоять в том, чтобы общество выясняло себе свой потребности, изучало и устраняло причины своих страданий, отрешалось от своих предрассудков и клеймило презрением свои пороки, то «Евгений Онегин» не может быть назван ни первым, ни великим, ни вообще каким бы то ни было шагом вперед в умственной жизни нашего общества. Что же касается до богатырского размаха и до невозможности стоять на одном месте после «Евгения Онегина», то, разумеется, читателю при встрече с такими смелыми и чисто фантастическими гиперболами остается только улыбнуться, пожать плечами и припомнить то недалекое прошедшее, которое ежеминутно, как упорная и плохо вылеченная болезнь, дает себя чувствовать в настоящем.
Отношения Пушкина к изображаемым явлениям жизни до такой степени пристрастны, его понятия о потребностях и о нравственных обязанностях человека и гражданина до такой степени смутны и неправильны, что «любимое дитя» пушкинской музы должно было действовать на читателей, как усыпительное питье, по милости которого человек забывает о том, что ему необходимо помнить постоянно, и примиряется с тем, против чего он должен бороться неутомимо. Весь «Евгений Онегин» — не что иное, как яркая и блестящая апофеоза самого безотрадного и самого бессмысленного status quo. Все картины этого романа нарисованы такими светлыми красками, вся грязь действительной жизни так старательно отодвинута в сторону, крупные нелепости наших общественных нравов описаны в таком величественном виде, крошечные погрешности осмеяны с таким невозмутимым добродушием, самому поэту живется так весело и дышится так легко, — что впечатлительный читатель непременно должен вообразить себя счастливым обитателем какой-то Аркадии, в которой с завтрашнего же дня непременно должен водвориться золотой век.
В самом деле, какие человеческие страдания Пушкин сумел подметить и счел необходимым воспеть? Во-первых, — скуку или хандру; а во-вторых, — несчастную любовь, а в-третьих… в-третьих… больше ничего, больше никаких страданий не оказалось в русском обществе двадцатых годов. Сначала Онегин скучает оттого, что он слишком счастлив, слишком безгранично наслаждается всеми благами жизни; потом Татьяна страдает оттого, что Онегин не хочет на ней жениться; потом Онегин страдает оттого, что Татьяна не желает сделаться его любовницей. Значит, в русском обществе двадцатых годов были два капитальных порока, два таких порока, на которые величайший поэт России непременно должен был обратить свое просвещенное внимание. Во-первых, в тогдашней России было слишком много благ жизни, так что русские юноши могли объедаться ими, расстраивать себе желудки и вследствие этого впадать в хандру. Во-вторых, русские мужчины и русские женщины были так устроены от природы, что они не всегда одновременно влюблялись друг в друга: случалось, например, так, что женщина уже пламенеет, а мужчина еще едва начинает разогреваться; потом мужчина пылает, а женщина уже сгорела дотла и гаснет. Такое неудобное устройство причиняло много огорчений как просвещенным россиянам, так и очаровательным россиянкам. Роман Пушкина бросил яркий свет на обе главные язвы русской жизни; так как этот роман был богатырским размахом, то стоять на одном месте после его появления было уже невозможно, и русское общество, вникнув в страдания Онегина и Татьяны, немедленно сделало необходимые распоряжения, во-первых, насчет того, чтобы количество жизненных благ было приведено в строгую соразмерность с объемом юношеских желудков, а во-вторых, насчет того, чтобы просвещенные россияне и очаровательные россиянки воспламенялись взаимной любовью одновременно. Когда это равновесие вошло в надлежащую силу, тогда уничтожились хандра и несчастная любовь; в России водворился золотой век; юноши стали вкушать блага жизни с благоразумной умеренностью, а девы благодаря этим умеренным юношам стали; в надлежащее время превращаться в счастливых жен и превосходных матерей. Но золотой век исчез, как легкое сновидение; и смотрят юные потомки аркадских жителей на богатырский размах «Евгения Онегина», как на совершенно несообразную грезу, которую после пробуждения трудно не только понять, но даже и припомнить. И смекают эти развращённые потомки, что если «Евгений Онегин» есть энциклопедия русской жизни, то, значит, энциклопедия и русская жизнь нисколько друг на друга не похожи, потому что энциклопедия — сама по себе, а русская жизнь — тоже сама по себе.
По некоторым темным преданиям и по некоторым глубоким историческим исследованиям позволительно, например думать, что в России двадцатых годов существовало то явление общественной жизни, которое известно теперь под именем крепостного права. Интересно было бы знать, как отразилось это явление русской жизни в энциклопедии? Справляемся, и узнаем, что Онегин, приехав в деревню, заменил ярем старинной барщины легким оброком и что мужик благословил судьбу; что старуха Ларина «служанок била, осердясь», «брила лбы» и «стала звать Акулькой прежнюю Селину», что служанки, собирая ягоды, пели по барскому приказанию песни, для того «чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели»; что «крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь»; что дворовый мальчик бегает по двору, «в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив»; что на святках
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.
Вот и все, что мы можем почерпнуть из энциклопедии касательно крепостного права. Надо сказать правду, на этих сведениях лежит самый светло-розовый колорит: помещик облегчает положение мужика, мужик благословляет судьбу, мужик торжествует при появлении зимы — значит, любит зиму, значит, ему тепло зимой и хлеба у него вдоволь, а так как русская зима продолжается по крайней мере полгода, то значит, мужик проводит в торжестве и благодушестве по крайней мере половину своей жизни. Сын дворового человека тоже ликует и забавляется; значит, его никто не бьет, его хорошо кормят, тепло одевают и не превращают с малых лет в казачка, обязанного торчать на конике в лакейской и ежеминутно бегать то за носовым платком, то за стаканом воды, то за трубкой, то за табакеркой. Светло-розовый колорит немного помрачается тем неожиданным известием, что Ларина била служанок; но, во-первых, Она их била только «осердясь», а сердилась она, вероятно, очень редко и только за дело, потому что, если бы она была способна сердиться часто и неосновательно, то, разумеется, проницательный Онегин, приятель и любимец автора энциклопедии, и не сказал бы о Лариной, что она «очень милая старушка». Во-вторых, служанок и нельзя было не бить, потому что они, как мы узнаем из той же энциклопедии, были очень большие мерзавки; они были способны похищать барские ягоды, и барыня, для ограждения священной собственности и для предохранения мерзких служанок от гнусного преступления, была принуждена утруждать свою барскую голову и придумывать то замысловатое средство, которое называется в энциклопедии затеей сельской остроты и которое приучало служанок предпочитать высокие эстетические наслаждения, — как-то пение, — низким материальным предметам, именно ягодам. В-третьих, служанок били не больно, потому что ни самые побои, ни воспоминания об оных не мешали им проводить святки в песнопениях, в которых они имели случай усовершенствоваться во время лета, при своих нередких столкновениях с низкими материальными предметами, то есть с ягодами.
Итак, основываясь на свидетельстве энциклопедии, мы имеем полное право умозаключить, что крепостное право доставляло весьма много пользы и удовольствия как помещикам, так и мужикам. Помещики имели возможность обнаруживать свое великодушие, мужики имели возможность учиться у них бескорыстию, служанки развивали в себе эстетическое чувство и способность нравственного самообладания, — словом, все благоденствовали и взаимно совершенствовали друг друга.
X
Если вы пожелаете узнать, чем занималась образованнейшая часть русского общества в двадцатых годах, то энциклопедия русской жизни ответит вам, что эта образованнейшая часть ела, пила, плясала, посещала театры, влюблялась и страдала то от скуки, то от любви. — И только? — спросите вы. — И только! — ответит энциклопедия. — Это очень весело, подумаете вы, но не совсем правдоподобно. Неужели в тогдашней России не было ничего другого? Неужели молодые люди не мечтали о карьерах и не старались проложить себе так или иначе дорогу к богатству и к почестям? Неужели каждый отдельный человек был доволен своим положением и не шевелил ни одним пальцем для того, чтобы улучшить это положение? Неужели Онегину приходилось презирать людей только за то, что они очень громко стучали каблуками во время мазурки? И неужели не было в тогдашнем обществе таких людей, которые не задергивали мыслителей XVIII века траурной тафтой и которые могли смотреть на Онегина с таким же презрением, с каким сам Онегин смотрел на Буянова, Пустякова и разных других представителей провинциальной фауны? — На последний вопрос энциклопедия отвечает совершенно отрицательно. По крайней мере мы видим, что Онегин на всех смотрит сверху вниз и что на него самого не смотрит таким образом никто. Все остальные вопросы оставлены совершенно без ответа.
Зато энциклопедия сообщает нам очень подробные сведения о столичных ресторанах, о танцовщице Истоминой, которая летает по сцене, «как пух от уст Эола»; о том, что варенье подается на блюдечках, а брусничная вода в кувшине; о том, что дамы говорили по-русски с грамматическими ошибками; о том, какие стишки пишутся в альбомах уездных барышень; о том, что шампанское заменяется иногда в деревнях цимлянским; о том, что котильон танцуется после мазурки, и так далее. Словом, вы найдете описание многих мелких обычаев, но из этих крошечных кусочков, годных только для записного антиквария, вы не извлечете почти ничего для физиологии или для патологии тогдашнего общества; вы решительно не узнаете, какими идеями или иллюзиями жило это общество; вы решительно не узнаете, что давало ему смысл и направление или что поддерживало в нем бессмыслицу и апатию. Исторической картины вы не увидите; вы увидите только коллекцию старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, старинной мебели и старинных ужимок. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но ведь этого мало; чтобы нарисовать историческую картину, надо быть не только внимательным наблюдателем, но еще, кроме того, замечательным мыслителем; надо из окружающей вас пестроты лиц, мыслей, слов, радостей, огорчений, глупостей и подлостей выбрать именно то, что сосредоточивает в себе весь смысл данной эпохи, что накладывает свою печать на всю массу второстепенных явлений, что втискивает в свои рамки и видоизменяет своим влиянием все остальные отрасли частной и общественной жизни.
Такую громадную задачу действительно выполнил для России двадцатых годов Грибоедов; что же касается Пушкина, то он даже не подошел близко к этой задаче; далее не составил себе о ней приблизительно верного понятия. Начать с того, что выбор героя в высшей степени неудачен. В таком романе, который должен изобразить в данный момент жизнь целого общества, героем должен быть непременно или такой человек, который сосредоточивает в своей личности смысл и типические особенности status quo, или такой, который носит в себе самое сильное стремление к будущему и самое ясное понимание настоящих общественных потребностей. Другими словами: героем должен быть непременно или рыцарь прошедшего, или рыцарь будущего, но во всяком случае человек деятельный, имеющий в жизни какую-нибудь цель, толкающийся между людьми, суетящийся вместе с толпой, развертывающий и напрягающий так или иначе, в честном или бесчестном деле, все силы своего ума и своей энергии. Только жизнь такой активной личности может показать нам в наглядном примере достоинство и недостатки общественного механизма и общественной нравственности.
За какими благами гонится большинство, какие средства ведут к желанному успеху, как относится к различным средствам общественное мнение, из каких составных элементов слагается это общественное мнение, где кончается рутина и где начинается протест, каковы сравнительные силы рутинеров и протестантов, как велико между ними взаимное ожесточение, — все эти и многие другие вопросы, которые необходимо должны быть поставлены и решены в энциклопедии общественной жизни, могут быть затронуты только тогда, когда средоточением всей картины будет сделан боец и работник, а не сонная фигура праздношатающегося шалопая. Чичикова, Молчалива, Калиновича[8] можно сделать героями исторического романа, но Онегина и Обломова — ни под каким видом. Чичиков, Молчалин, Калинович, как люди, чего-то добивающиеся, связаны с обществом самыми крепкими узами, потому что они только в обществе и посредством общества могут осуществлять свои желания. Заставляя их итти по тому или по другому пути, заставляя их в одном месте солгать, в другом сплутовать, в третьем произнести чувствительную речь, в четвертом отвесить низкий поклон, — общество обтесывает их по своему образцу и подобию, изменяет их характеры, определяет их понятия и понемногу приготовляет из них типических представителей данного времени, данного народа и данный среды. Напротив того, Онегин и Обломов, люди обеспеченные в своем материальном существовании и не одаренные от природы ни великими умами, ни сильными страстями могут почти совершенно отделиться от общества, подчиниться исключительно требованиям своего темперамента и таким образом не отразить в своем характере ни дурных, ни хороших сторон данного общественного устройства. Эти люди, как отдельные личности, не представляют решительно никакого интереса для мыслителя, изучающего физиологию общества. Они приобретают значение только в том случае, когда они, по многочисленности, превращаются в заметный статистический факт. Если в образованнейшей части какого-нибудь общества встречаются на каждом шагу сотни или тысячи Онегиных и Обломовых, то есть людей, игнорирующих существование общества и не имеющих никакого понятия ни о каких общественных интересах, то, разумеется, такой факт может навести мыслящего наблюдателя на очень поучительные размышления. Этот наблюдатель будет иметь полное право подумать, что движение общественной жизни чрезвычайно вяло и слабо, потому что это движение не затягивает в себя и не увлекает за собою тех людей, которые живут в данном обществе. Но даже и в этом случае мыслящему писателю незачем приниматься за специальное изучение расплодившихся Онегиных и Обломовых. Как бы они ни были многочисленны, они все-таки составляют пассивный продукт, а не деятельную причину общественного застоя. Не оттого в погребе сыро, что в нем живут мокрицы, а оттого в него набрались мокрицы, что в нем было сыро. А отчего сыро было — это уже другой вопрос, при исследовании которого мокрицы должны быть совершенно отодвинуты в сторону. Не оттого общественная жизнь движется медленно, что в обществе много Обломовых и Онегиных, а, напротив того, Обломовы и Онегины расплодились в обществе по той причине, что общественная жизнь движется медленно. А почему она движется медленно — это уже другой вопрос, при исследовании которого надо иметь в виду не Обломовых и Онегиных, а Чичиковых, Молчаливых, Калиновичей, с одной стороны, и Чацких, Рудиных, Базаровых, с другой стороны.
Таким образом, в произведении мыслящего писателя, задумавшего нарисовать картину данного общества, фигуры, подобные Онегину, могут быть допущены только как вводные лица, стоящие на втором плане, как стоят, например, Загорецкий и Репетилов в комедии Грибоедова. Первые места по всей справедливости принадлежат Фамусову и Скалозубу, которые дают читателю ключ к пониманию целого исторического периода и которые, своими типическими и резко обозначенными физиономиями, объясняют нам и низкопоклонство Молчалина, и глупую сентиментальность Софьи, и бесплодное красноречие Чацкого. Грибоедов в своем анализе русской жизни дошел до той крайней границы, дальше которой поэт не может итти, не переставая быть поэтом и не превращаясь в ученого исследователя. Пушкин же, напротив того, даже и не приступал ни к какому анализу; он с полной искренностью и с очень похвальной скромностью говорит в VII главе «Онегина»: «пою приятеля младова и множество его причуд». Действительно, и этом и заключается вся его задача. Почему он обратил свое внимание именно на этого «приятеля младова», а не на кого-нибудь другого, — об этом вы его не спрашивайте. На то он и поэт, чтобы делать из области своего творчества все, что ему вздумается, не отдавая в том отчета никому на свете, ни даже самому себе. Чем объясняются причуды этого приятеля — этим он также нисколько не интересуется.
Если бы критика и публика поняли роман Пушкина так, как он сам его понимал; если бы они смотрели на него, как на невинную и бесцельную штучку, подобную «Графу Нулину» или «Домику в Коломне»; если бы они не ставили Пушкина на пьедестал, на который он не имеет ни малейшего права, и не навязывали ему насильно великих задач, которых он вовсе не умеет и не желает ни решать, ни даже задавать себе, — тогда я и не подумал бы возмущать чувствительные сердца русских эстетиков моими непочтительными статьями о произведениях нашего, так называемого, великого поэта. Но, к сожалению, публика времен Пушкина была так неразвита, что принимала хорошие стихи и яркие описания за великие события в своей умственной жизни. Эта публика с одинаковым усердием переписывала и «Горе от ума» — одно из величайших произведений нашей литературы, и «Бахчисарайский фонтан», в котором нет ровно ничего, кроме приятных звуков и ярких красок.
Спустя 20 лет за вопрос о Пушкине взялся превосходный критик, честный гражданин и замечательный мыслитель, Виссарион Белинский. Кажется, такой человек мог решить этот вопрос удовлетворительно и отвести Пушкину то скромное место, которое должно принадлежать ему в истории нашей умственной жизни. Вышло, однако, наоборот. Белинский написал о Пушкине одиннадцать превосходных статей и рассыпал в этих статьях множество самых светлых мыслей о правах и обязанностях человека, об отношениях между мужчинами и женщинами, о любви, о ревности, о частной и об общественной жизни, но вопрос о Пушкине в конце концов оказался совершенно затемненным. Читателям, а быть может, и самому Белинскому, показалось, что именно Пушкин породил своими произведениями все эти замечательные мысли, которые, однако, целиком принадлежали критику и которые, по всей вероятности, вовсе не понравились бы разбираемому поэту. Белинский преувеличил значение всех главных произведений Пушкина и каждому из этих произведений приписал такой серьезный и глубокий смысл, которого сам автор никак не мог и не хотел в них вложить.
Статьи Белинского о Пушкине, сами по себе, как самостоятельные литературные произведения, были чрезвычайно полезны для умственного развития нашего общества; но как восхваления старого кумира, как зазывания в старый храм, в котором было много пищи для воображения и в котором не было никакой пищи для ума, эти самые статьи могли принести и действительно принесли свою долю вреда. Белинский любил того Пушкина, которого он сам себе создал; но многие из горячих последователей Белинского стали любить настоящего Пушкина, в его натуральном и необлагороженном виде. Они стали превозносить в нем именно те слабые стороны, которые Белинский затушевывал или перетолковывал по-своему. Вследствие этого имя Пушкина сделалось знаменем неисправимых романтиков и литературных филистеров. Вся критика Аполлона Григорьева и его последователей была основана на превознесении той всеобъемлющей любви, которой будто бы проникнуты насквозь все произведения Пушкина. Превознося кроткого и любвеобильного Пушкина, романтики и филистеры почти совершенно игнорируют Грибоедова и относятся почти враждебно к Гоголю. В некоторых журналах не раз высказывалось забавное мнение, что Гоголь не знал великорусской жизни. Если прибавить к этому, что некоторые малороссийские писатели упрекают Гоголя в незнании малорусского быта, то окажется, что Гоголь совсем ничего не знал и что он произвел полный переворот в русской литературе именно своим незнанием.
Восхищаясь своим возлюбленным Пушкиным, как величайшим представителем филистерского взгляда на жизнь, наши романтики в то же время прикрываются великим именем Белинского, как надежным громоотводом, спасающим их от всякого подозрения в филистерских вкусах и тенденциях. Мы — заодно с Белинским, говорят романтики, а вы, нигилисты, или реалисты, вы — просто самолюбивые мальчишки, старающиеся обратить на себя внимание публики вашими дерзкими отношениями к незабвенным авторитетам.
Благоговение романтиков перед Пушкиным доводит их иногда до самых смешных и нелепых крайностей. Апполон Григорьев написал однажды в одном из своих писем, изданных Страховым[9], что тремя последними великими поэтами он считает Байрона, Мицкевича и Пушкина. Довольно забавно уже то обстоятельство, что рядом с Байроном поставлены Мицкевич и Пушкин. Это совершенно все равно, что поставить Кайданова и Смарагдова рядом с Шлоссером. Но еще гораздо забавнее то обстоятельство, что Мицкевич и Пушкин попали в число великих поэтов, а Гейне не попал. Оно и понятно. Не заслуживает он этой чести, потому что был свистуном и отрицателем. Понятно также, почему панегиристы Пушкина молчат о Грибоедове и недолюбливают Гоголя. И Грибоедов, и Гоголь стоят гораздо ближе к окружающей нас действительности, чем к мирным и тихим спальням романтиков и филистеров.
Так как борьба литературных партий сделалась теперь упорной и непримиримой, так как духом партии обусловливаются теперь взгляды пишущих людей на прежних писателей даже в тех органах нашей печати, которые сами вопиют против духа партии, то и реалисты, сражаясь за свои идеи, поставлены в необходимость посмотреть повнимательнее, с своей точки зрения, на те старые литературные кумиры и на те почтенные имена, за которые прячутся наши очень свирепые, но очень трусливые гонители. Мы надеемся доказать нашему обществу, что старые литературные кумиры разваливаются от своей ветхости при первом прикосновении серьезной критики. Что же касается до почтенного имени Белинского, то оно повернется против наших литературных врагов. Расходясь с Белинским в оценке отдельных фактов, замечая в нем излишнюю доверчивость и слишком сильную впечатлительность, мы в то же время гораздо ближе наших противников подходим к его основным убеждениям.
ПРИМЕЧАНИЯ
Статья «Пушкин и Белинский» впервые напечатана в журнале «Русское слово», 1865 г., апрель и июнь. В журнале она разделена на две статьи с такими названиями: первая статья имела заголовок — «Евгений Онегин», вторая — «Лирика Пушкина».
[1] "Романс о бревне" был распространен в 60-х годах, на эти стихи романса Писарев намекает и далее в этой статье:
Вдруг я вижу, чья-то ножка
Оперлася на бревно,
Я влюблен был в эту ножку, —
Но вам это все равно...
И сказал я чрез окошко:
Ах! зачем я не бревно!
[2] Анталкидов мир (387 год до н. э.) — мир между Персией и Спартой, по условиям которого греческие города в Малой Азии перешли под власть Персии. ↩
[3] Договор Олега (первого киевского князя из рода Рюрика) с греками состоялся после удачного похода Олега в 907 году на Царь-град (Константинополь), когда Олег повесил свой щит "на вратах Царьграда". ↩
[4] Священный союз — был заключен Германией. Австрией и Россией в сентябре 1815 года для объединения сил монархической и феодальной реакции.↩
[5] Венский конгресс (1814-1815) — съезд представителей европейских государств после победы над Наполеоном; деятельность съезда носила реакционный характер.↩
[6] Карлсбадские конференции (1819), созванные по инициативе Меттерниха, одного из организаторов "Священного союза", для борьбы с революционными и оппозиционными настроениями в Европе. Эти конференции закрепили торжество реакции во внешней и внутренней политике Германии. ↩
[7] Букеевская орда — степная область Астраханского края по левому берегу Волги. В конце XVIII в. один из киргизских ханов Букей, с разрешения русского правительства, привел сюда и посетил более тридцати тысяч киргизов. ↩
[8] Калинович — герой романа Писемского "Тысяча душ". ↩
[9] Письма Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову были напечатаны в журнале "Эпоха", 1864, кн. IX. ↩
Д. И. Писарев. Литературно-критические статьи. Избранные. Вступительная статья, комментарии, примечания и редакция Н. Ф. Бельчикова. Государственное издательство «Художественная литература», М., 1940



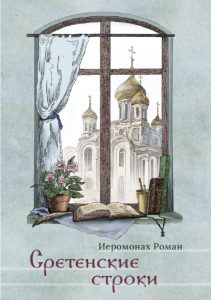




Замечательная статья. Согласна во всём с автором. Вот только, по моему мнению, не надо так строго судить Татьяну . Татьяна- ребенок, начитавшаяся любовных романов. Ей всего 13 лет. А в этом возрасте девочки много глупостей делают.