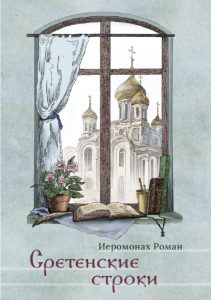Оптина пустынь была особым монастырем. Не было и нет другого такого монастыря на Руси, который постоянно притягивал бы к себе творческих людей. На протяжении полутора веков (XIX и начала XX века) старцы оптинские утешали, вразумляли, вдохновляли русских литераторов, художников, актеров. Молились за тех, «у кого на душе кошки скребут» — как сказал преподобный Нектарий о внутреннем состоянии каждого литератора, и благословляли на то, чтобы слово пишущих для народа было спасительным, а не губящим, и стало «детоводителем ко Христу» для тех, кто далек от Церкви, но ценит культуру.
Преподобный Макарий Оптинский, окормляя семью Киреевских, через них знакомил русское общество с забытым им к началу XIX столетия святоотеческим наследием, он же был самым глубоким и авторитетным наставником Н. В. Гоголя; старец Амвросий оказал влияние на «властителей дум» того времени — Л. Толстого, Ф. Достоевского, В. Соловьева, К. Леонтьева; старец Варсонофий привлекал к себе аристократию и интеллигенцию и в беседах с ними открывал подлинный смысл и цену человеческого творчества; старец Нектарий опекал художников, актеров и поэтов и стал духовным наставником яркого духовного писателя — С. А. Нилуса; старец Никон, оставивший нам свои келейные записки, предстает в них как духовный писатель с тонкой поэтической душой.
Кроме того, из самого монастыря вышли два поэта-монаха: преподобный Варсонофий и убиенный иеромонах Василий (Росляков).
Но если бы все в отношениях старцев и творческих людей было благостным и непротиворечивым, то не случилось бы того массового отступления от веры, которое произошло после 1917 года (а созрело гораздо раньше). И сейчас проблема отношений интеллигенции и Церкви стоит очень остро, потому нужно вглядываться в противоречия между преподобными старцами и светскими наставниками народа — русскими литераторами.

О духовной близости русских писателей XIX века и старцев Оптиной пустыни написано немало. Пришло время говорить о «водоразделах мыслей», мировоззрений. Пришло время не «замазывать противоречия», а выявлять их, потoмy что в духовных вопросах важно знать конкретные пути, ведущие ко спасению.
Начнем эту статью с пространной цитаты из письма К. Леонтьева. Написано письмо было из Оптиной пустыни в 1887 году Анатолию Александрову, который решал в то время вопрос выбора жизненного пути: поэтический труд или профессорство в университете. Леонтьев, как всегда остро, ставит проблему соотношения «морали» и поэзии:
«Вы пишете о своем сердце: “мое мягкое и глупое сердце”… Вам жаль ваших бедных родных, и вы не хотите забыть их для каких-то “воздушных замков”… Я, друг мой, верьте, понимаю ваши чувства, столь благородные и искренние, — и, если бы мы были теперь вместе, я бы мог привести вам из собственной жизни примеры той самой борьбы поэзии с моралью, о которой вы говорите.
Сознаюсь, у меня часто брала верх первая, не по недостатку естественной широты и честности (они были сильны от природы во мне), а вследствие исключительно эстетического мировоззрения. Гёте, Байрон, Беранже, Пушкин, Батюшков, Лермонтов, Гоголь, самый этот теперь столь дряхлый Аф. Аф. Шеншин (Фет) и даже древние поэты, с духом которых я был знаком по переводам и критическим статьям, в высшей степени развратили меня. Да и почти все (самые лучшие именно) поэты, за исключением разве Шиллера и Жуковского (надо христианину иметь смелость это сказать!), — глубокие развратители в эротическом отношении и в отношении гордости. И если, наконец, старея, я стал (после 40 лет) предпочитать мораль — поэзии, то этим я обязан, право, не годам (не верьте, что старость одна может морализировать: нередко, напротив того, она изощряется в разврате: примеров, даже исторических, — 6ездна), — не старости и болезням я обязан этим, но Афону, а потом Оптиной…
Если я, по характеру несравненно более вас легкомысленный, по первоначальным условиям общественным и семейным гораздо более вас избалованный и развращенный, почувствовал, наконец, потребность более строгой морали, то тем более, какая же возможность вам забывать мораль? Вам с вашей серьезностью, с вашей глубиной сердечной, при тех суровых требованиях, которые со стороны семейной с таких ранних лет предъявляет к вам судьба! Я был бы не только очень грешный, но и скверный человек, самый скверный, если бы я стал внушать вам что-нибудь другое, зная наверное, что слова моего поистине огромного житейского опыта не пройдут бесследно для вашей впечатлительной души.
Если я, при моем врожденном легкомыслии, до сих пор не могу простить себе некоторые из моих давних сознательно жестоких и преднамеренно сухих поступков (когда я во имя поэзии жертвовал добротой, состраданием, честностью и т. д.), то вы, такой серьезно-хороший человек, — да вы не будете никогда покойны и проклянете себя, если для этих «воздушных замков» забудете мораль. Но как же быть? Поэзия жизни обворожительна, мораль очень часто — увы! — скучна и монотонна… Вера, молитва, Церковь, поэзия религии Православной со всей ее обрядностью и со всем аскетическим “коррективом” ее духа — вот единственное средство опоэтизировать прозу семейной морали, вот лучшее противоядие тонкому яду поэзии героической и любовной.
…Знаете ли вы, что я две самые лучшие вещи, роман и не роман (“Одиссея” и “Византизм и славянство”) написал после полутора года обращения с некими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской и духовной борьбы с самим собою? (С ужасом и благодарностью я вспоминаю теперь об этих жестоких и возвышающих сердце временах!)
…Нужно дожить, дорасти до действительного страха Божия, до страха почти животного. Страх животный унижает как будто нас. Тем лучше — унизимся пред Богом; через это мы нравственно станем выше. Та любовь к Богу, которая до того совершенна, что изгоняет страх, доступна только очень немногим; даже из святых. Преподобный Антоний Великий сказал: “Я Бога теперь уж так люблю, что и не боюсь Его”. Но сказал он это после таких испытаний и искушений, что нам и подумать страшно. А то, что многие из нас считают в себе любовью к Богу, обыкновенно бесплодно без помощи и примеси страха Божия.
…Ну, довольно, — вы поняли меня.
Вот мое вам заключение: не забывайте бедных родных, — готовьтесь во профессора, это должность обеспеченная, ровная, покойная и — при хорошем духе — в высшей степени полезная другим. А, впрочем, я, со своей стороны, если буду этой зимой в Петербурге, посмотрю, нельзя ли вам доставить возможность иного пути, более живого и для стихотворства более выгодного».
Письмо К. Леонтьева можно прокомментировать его же книгой об отце Клименте Зедергольме. В книге, посвященной своему другу, иноку Оптиной пустыни, Леонтьев дает почувствовать то, что забываем часто мы, сравнивая и чрезмерно духовно сближая старцев и писателей, — почувствовать святость старцев.
Живя в Оптиной постоянно, а не бывая там наездами, как другие литераторы, общаясь с преподобным Амвросием, Леонтьев видел, что старец воистину есть «новый человек», победивший в себе «ветхого». Леонтьев, пожалуй, единственный из всех связанных с Оптиной литераторов понял, что войти во внутреннюю жизнь инока человек светский (чем бы он ни занимался в миру) может только теоретически, что суть пути постоянного откровения помыслов, поста, внутреннего делания, ежедневного участия в богослужении и жизни по послушанию открывается только тому, кто сам из года в год идет по нему. Путь опытного подвижничества созидает монашеское мировоззрение, а мировоззрение писательское ему во многом противоположно. Об этой противоположности Леонтьев писал как о личном опыте: «Я все тот же, я не умею упростить себя так, как он (о. Климент) упростил себя умственно; может быть, мы оба правы… Он был монах — я мирянин; он был иерей, священник, я духовного сана не имею; он, постригаясь в мантию, давал страшные обеты отречения и был связан ими — я связан с миром, я имею дурную привычку писать, имею великое несчастье быть русским литератором. Это, конечно, большая разница… Другие обязанности, другая ответственность; иные впечатления, иная борьба…» [1]
«Ум мой я упростить не могу».
Вот это в водоразделе мировоззрения монашеского и писательского, пожалуй, самое главное: простота и сложность, мир душевный и постоянная тревога в поисках разгадки вопросов жизни душевной, общественной, политической. «Другие обязанности, другая ответственность, иные впечатления, иная борьба…» Иной Божий замысел о человеке.
Но беда в том, что писатель в России в XIX столетии оценивался читателями, а зачастую и сам считал себя духовным наставником, учителем, даже пророком. Писатель среди интеллигенции занял место старца, подвижника. И здесь компромиссов быть не могло. Пример этой старческой бескомпромиссности мы встречаем в отношении наших подвижников к некоторым моментам творчества Н. В. Гоголя.
Как известно, Н. В. Гоголь всегда был желанным гостем в Оптиной, его слова об обители стали теперь хрестоматийными. Встреча со старцем Макарием (Ивановым) была для писателя духовным рубежом. Но в оценке книги, в которой выразилось жизненное кредо Гоголя, — «Выбранные места из переписки с друзьями» — старец Макарий присоединился к нелицеприятному отзыву епископа Игнатия (Брянчанинова). Более того, этот отзыв был первоначально опубликован под именем старца Макария[2], так как был найден в его архиве после смерти, переписанный его рукою. И только много позднее 6ыла установлена принадлежность письма епископу Игнатию[3] . В отзыве на «Выбранные места» проведена грань между вдохновением человеческим и «Божьим гласом»: «Есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает это вдохновение, как смешанное, умерщвляет его, чтобы Дух, пришедши, воскресил его в обновленном состоянии. Если же человек прежде очищения Истиною будет руководствоваться своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но добро, смешанное со злом более или менее. Всякий взгляни в себя и поверь сердечными опытами слова мои. Они точны и справедливы, скопированы с самой натуры»[4].
В книге Гоголя епископ Игнатий, а вслед за ним и старец Макарий видели смешение тьмы и света: «Религиозные понятия его (Гоголя) неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного. Он писатель, а в писателе непременно “от избытка сердца глаголют уста”; сочинение есть непременная исповедь сочинителя, по большей части им не понимаемая, а понимаемая только таким христианином, который возведен Евангелием в отвлеченную сторону помыслов и чувств и в ней различил свет от тьмы; книга Гоголя не может 6ыть принята целиком за чистые глаголы Истины. Тут смешение; тут между многими правильными мыслями много неправильных. Желательно, чтобы этот человек, в котором заметно самоотвержение, причалил к пристанищу Истины, где начало всех духовных благ. По этой причине советую всем друзьям моим заниматься по отношению к религии единственно чтением святых отцов, стяжавших очищение и просвещение по подобию Апостолов, потом уже написавших свои книги, из которых светит чистая Истина и которые сообщают читателям вдохновения Святого Духа»[5].
Итак, говорить о религиозных переживаниях учительски может только подвижник. Неизвестно, имел ли Гоголь со старцем Макарием разговор о «Выбранных местах», и как, если разговор этот состоялся, отнесся к нему Гоголь, но реакция его на увещевания епископа Игнатия нам известна: «Будь покоен на мой счет, — писал он П. А. Плетневу, — меня не смутят критики и ни в чем не заставят меня пошатнуться, это здраво и крепко во мне. Из всех писателей, которых мне случалось читать биографии, я не встретил еще ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет. Эту твердость мою я чту знаком Божьей милости к себе… Но у меня правило: всех выслушай и сделай по-своему. И что я сделаю по-своему, всех выслушавши, то уже трудно будет поднять на публичное посмешище, даже и временное» . Итак, писатель по природе своего дарования не может отказаться от своего «я», весь пафос его творчества в отстаивании своего вдохновения, своей правоты, потому что творчество служит прежде всего самовыражению. Апофеоза этот общий закон достигает в жизни и творениях Л. Н. Толстого.
Исследователи, говоря о шестикратном посещении Толстым Оптиной пустыни, выделяют прежде всего положительный смысл этих паломничеств. А говорить приходится о трагедии, которая перерастает в символ отношений Церкви и интеллигенции накануне революционных событий 1917 года.
Да, действительно, после первых посещений монастыря в сознательном возрасте в 1877 и 1881 годах Толстой признавал святость старца Амвросия, но потом он приезжал в монастырь с желанием отстоять свое «чистое Евангелие», уличал старца в недостаточном знании Священного Писания. Вот запись Толстого от 27 февраля 1890 года, которую почему-то теперь не любят цитировать: «Вчера был у Амвросия, говорил о разных верах. Я говорю: где мы в Боге, т. е. истине, там все вместе; где в дьяволе, т. е. во лжи, там все врозь… Амвросий жалок своими соблазнами. На нем видно, что монастырь — сибаритство…»
«Соблазны» преподобного, видимо, состояли в том, что он мягко пытался образумить Льва Николаевича, а «сибаритство» — в верности церковной традиции, Священному Преданию. Слова старца о Толстом — «горд очень» — точно определили душевный недуг великого писателя, болезнь, с которой в конце жизни он пытается бороться в напряжении всех сил: бежит из Ясной Поляны в Оптину пустынь, потом в Шамордино к своей сестре монахине Марии, умирая, просит об исповеди. Но старца Варсонофия, прибывшего из Оптиной на станцию Астапово, чтобы принять покаяние измучившейся души, не допускают до этого родные и ученики Толстого. Старец Варсонофий в своих «Беседах» часто будет вспоминать о трагедии Толстого, говорить своим духовным чадам, как это страшно: «приобрести весь мир, а душу свою погубить»[6].
О том же говорил и близкий оптинским старцам святой праведный Иоанн Кронштадтский, обличая Толстого, который призывал к отказу от традиционного пути церковного непопечения, и потому несомненно должен был быть уличен в этом неправомыслии. Ведь за ним шли миллионы — и не только интеллигенты, но и простой народ.
Знаменательно, что о Ф. М. Достоевском старец Амвросий произнес слова, противоположные оценке состояния Льва Толстого: «Этот из кающихся». Действительно, Федор Михайлович приехал в монастырь не разрешать идеологические вопросы, не собирать материал для художественных повествований, а для того, чтобы утолить свое горе после смерти любимого сына Алеши. И, вероятно, именно это смиренное припадание к ногам старца дало ему возможность в романе «Братья Карамазовы» воплотить образ «положительно прекрасного человека» — святого старца. «Братья Карамазовы», может быть, и писавшиеся с благословения отца Амвросия, произвели благотворное действие на русскую читающую публику. Именно Достоевский на протяжении целого столетия становится для ищущих «русских мальчиков» проводником к православию. Он занимает как бы пограничную позицию между живущими в святоотеческой традиции старцами и все открывающей заново, питающейся духом новизны (в том числе и новизной откровений о традиции) русской интеллигенцией. Но в «Братьях Карамазовых» Достоевскому удалось показать и трагедию внешнего взгляда на святого. Вспомним прежде всего реакцию на действия и слова старца Тихона таких героев, как Миусов, Ракитин, отчасти Иван Карамазов; да и сам автор повествования в главе о кликушах никак не может примириться с чудесами, ставит слово «беснование» в кавычки и пытается найти этому явлению медицинское, социальное, психическое объяснение.
Поэтому и по отношению к Достоевскому нам сейчас необходимо помнить о том, что он никогда не был бесстрастен в своих произведениях и сам сознавал, что вполне понять святого человека может только святой же (так и писались в древности жития святых), что он скорее изображает жизнь старца через свое восприятие (в «меру жития» своего), зачастую приписывая старцу свою идеологию, свои мысли и переживания. Говорить же о том, что поучения старца Зосимы вполне соответствуют документально засвидетельствованным поучениям оптинских и других старцев, нельзя[7]. Более того, можно говорить о серьезных расхождениях.
Границу идеологизма из всех связанных с Оптиной литераторов вполне удалось преодолеть, пожалуй, только одному — Сергею Александровичу Нилусу. Нилус возвращает в русскую литературу отношение к писательскому делу как к послушанию. Это значит, что, как и всякое другое послушание, делаться оно должно было и делалось только с благословения старца. Кроме того, Нилусу удается действительно умалить себя в своих книгах: никаких пространных личных мнений мы в его дневниках (сам жанр, казалось бы, к этому обязывал) не найдем. Прежде всего он пытается передать живое слово живых, реальных, а не сочиненных, обобщенных, художественно преображенных старцев. Этого опыта русская литература в такой чистоте до Нилуса не знала, не случайно отец Павел Флоренский назвал его «старцем в миру». Но не случайно, наверное, и то, что при жизни Нилус не был оценен русской интеллигенцией и даже был гоним, а потом забыт и запрещен.
Путь послушания в умственном труде, в творчестве для большинства интеллигенции был слишком узок и казался несовместимым с вдохновением. Призыв отца Павла Флоренского к соотечественникам в 1919 году увидеть именно в Оптиной пустыни ту «новую культуру, новую нayкy, новую общественность», которую собирались тогда строить в России, остался неуслышанным. Интеллигенция русская до конца должна была пройти по пути гуманистических ценностей, чтобы понять, что эти ценности ведут ее к самоистреблению и что гуманизм и христианство не одно и то же.
Но и во время «революционного строительства» Оптина не оставляла своим вниманием души ищущие. Известно, что последний старец обители, иеросхимонах, ныне преподобный Нектарий (Тихонов) просил в 1920-е годы читать ему стихи современных поэтов и не отрицал в них духовного смысла. Старцу Нектарию принадлежат слова, которые, пожалуй, разрешают все вопросы, поставленные нами в этой статье: «Жизнь определяется в трех смыслах: мера, время и вес. Самое прекрасное дело, если оно будет выше меры, не будет иметь смысла… Но есть и большое Искусство — слово. Слово убивающее и воскрешающее (псалмы Давида). Но путь к этому искусству лежит через личный подвиг художника. Это путь жертвы. И один из многих тысяч доходит до него».
Итак, ответ в вертикальном, а не в горизонтальном взгляде на жизнь, только в этом случае появляется иерархическая, а не моралистическая картина мироздания, и противопоставление старцев и писателей тогда становится не разведением их по разные стороны баррикад в борьбе со злом, а пониманием, что существуют разные уровни «духовного стяжания» и что суд Божий не есть суд человеческий. Самое яркое свидетельство сему — слова старца Нектария, сказанные им после кончины Александра Блока, поэта, воплотившего в своей судьбе трагедию России. Когда через несколько дней после смерти Блока его ученица поэтесса Надежда Павлович попросила батюшку помолиться о упокоении души раба Божия Александра (она не сказала, что это Блок), преподобный старец после молитвы перед келейным иконостасом неожиданно ответил ей: «Передай его матери, пусть она будет благонадежна. Александр в раю». Эти слова поражают не только неожиданностью по отношению к тому, кто знал муку богоборчества и демонизма, но и тем, что ими свидетельствуется святость старца Нектария: подлинным подвижникам, духоносным старцам, открыты сокровенные Божии замыслы.
Людмила Ильюнина
Впервые опубликовано в альманахе «Оптина пустынь», №1. Издательство монастыря Оптина пустынь, 1993
Сайт «Ветрово»
24 января 2020
[1] Леонтьев К. Н. Отец Климент Зедерrольм, иеромонах Оптиной пустыни. 1882. С. 105, 106. ↩
[2] Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский и К. И. Леонтьев перед старцами Оптиной пустыни. Изд. Казанского Шамординского монастыря, 1911. С. З. ↩
[3] Соколов Л. Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. Т. 2. Киев, 1915. С. 120–122. ↩
[4] Там же. С. 121. ↩
[5] Там же. С. 122. ↩
[6] См. в этом же сборнике статью: Старец Варсонофий Оптинский о Гоголе. Переписка с друзьями. Т. 2. М., 1984. С. 8. ↩
[7] Об этой неадекватности свидетельствует один из примеров начала ХХ века — отношение Н. А. Бердяева к Достоевскому и к старцам. Бердяев Н. Л. Самопознание. М., 1991. С. 186–189. ↩