 Рисунок А. С. Пушкина к стихотворению «Молитва» (1836 г.) / Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 тт. М., ГИХЛ, 1959-1962. Т.2. С.457.
Рисунок А. С. Пушкина к стихотворению «Молитва» (1836 г.) / Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 тт. М., ГИХЛ, 1959-1962. Т.2. С.457.
Стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…» (авторское название в черновике – «Молитва»), написанное за полгода до смерти поэта, относят к золотому фонду русской «православной культуры», то есть к тем редким случаям обращения видных деятелей отечественного искусства и философско-религиозной мысли непосредственно к церковной тематике, а не к тому абстрактному, гуманистически переживаемому, мифическому «христианству», которое составляет гностическую сущность религиозного романтизма и модернизма. В радикальной форме это выражается следующим набором идей: «Я считаю себя глубоко религиозным человеком, а между тем для меня не нужна церковь и не нужна молитва. <…> Религиозные откровения — в частности, христианские — кажутся мне ничтожными по сравнению с тем, что переживается [мной] во время научной работы»[1].
Аналогичным образом (то есть квазирелигиозно) переживается художественное творчество и место художника в «духовной иерархии мира» в романтизме. По этой причине и те немногие случаи использования собственно православных мотивов в художественном и философском творчестве эпохи несут на себе отпечаток этого гностицизма как вольной или невольной, скрытой или демонстративной оппозиции церковному толкованию евангельского учения и вообще исторически сложившейся жизни Церкви. Соответственно, наиболее «православные» по своей «культуре» сочинения, концепции и опыты характеризуются лишь наименьшим удельным весом этой принципиально нецерковной «религиозности» как плодов альтернативного прочтения Священного Писания и «творческого» его воплощения в жизнь. То есть если радикальному гностику Вернадскому и другим отечественным «космистам» для того, чтобы переживать свою «истинную религиозность», «церковь и молитва» были вовсе «не нужны», то умеренному гностику Пушкину (или Достоевскому, или Хомякову, к примеру), «церковь и молитва» вполне годились как опыты «религиозной жизни», хотя и не вполне соответствующие их «идеалу», до которого они (как истинные «пророки» «Абсолюта» и «Идеала») брались «восполнить» несовершенные «религиозные опыты» исторической Церкви. И, в частности, в стихотворении Пушкина «Молитва» к такого рода рудиментам романтического гностицизма следует отнести следующие фрагменты.
Первое искажение, сделанное «глубоко религиозным человеком», содержится в первой же строке, где сообщается, что «отцы пустынники и жены непорочны… сложили множество божественных молитв». На самом деле, как известно всякому, державшему в руках православный молитвослов, в нем нет ни одной молитвы, «сложенной непорочной женой». Разумеется, целомудрие и девство почитаются в Церкви как высшие добродетели. Как преподобные прославлены святые Мария Египетская, Мелания Римлянина, Домника, Аполлинария, Евфросиния Полоцкая и другие подвижницы. Все они, конечно, много молились. Но, тем не менее, либо они сами, по смирению, не дерзнули сложить богоугодные молитвословия, либо Церковь не сохранила их в числе канонических. Соответственно, сообщение о том, что автору стихотворения известно «множество молитв», сложенных святыми женами, сразу характеризует его как дилетанта в той сфере, которую он выбрал темой своего стихотворения, вопреки пропагандистски распространяемому мнению о том, что «с самого детства писатель был знаком с православными традициями, посещал церковные службы, а также был внимательным читателем православной богословской литературы»[2], в то время как на самом деле «писатель с детства был знаком» совсем с другой «традицией», читая обширную масонскую библиотеку своего отца и дяди.
Еще более очевидным это становится во второй строке, где цель христианской молитвы романтически определяется как «возлетание сердцем в заочные области», то есть воспарение души в трансценденцию Горнего мира. Здесь, опять же, минимальных познаний в православной традиции духовной жизни достаточно, чтобы увидеть, насколько такая установка далека от церковной. «Для правильности молитвы надобно, чтоб она приносилась из сердца, наполненного нищетою духа, из сердца сокрушенного и смиренного. Все другие состояния сердца, до обновления его Духом Святым, признавай – каковы и точно они – несвойственными кающемуся грешнику, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об освобождении – как из темницы и оков – из порабощения страстям. <…> Не ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтоб ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтоб оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтоб оно увидело их, созналось в них с самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы – истинное покаяние. Ты восстенаешь пред Богом и будешь вопиять к Нему молитвою из бедственного состояния души, тебе внезапно открывшегося; будешь вопиять, как из темницы, как из гроба, как из ада. <…> Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов. Они совсем не таковы на самом деле, каковыми представляются нашему воображению: действие Святаго Духа, от Которого являются высокие молитвенные состояния, непостижимо для ума плотского [св. Исаак Сирин. Слово 55]. <…> Молитвы, сочиненные еретиками, весьма сходствуют с молитвами язычников: <…> в них стремление на брак Сына Божия прямо из блудилища страстей»[3]. Иными словами, романтический поэт приступает к молитве буквально с тем самым намерением (ради доведения себя до «харизматического» духовного состояния), с которым «отцы-пустынники» категорически запрещают это делать.
Вторая заявленная цель молитвы в стихотворении Пушкина – «укрепление сердца средь дольних бурь и битв» – была бы уже вполне ортодоксальной, если, по инерции первой, не оказывалась бы выражением той же самой духовной «самодеятельности» (там – введением себя в состояние вдохновенной окрыленности, здесь – укрепления себя этим, как «психической энергией» в агни-йоге). То есть молитвосложение описывается поэтом по аналогии с общеромантической концепцией стихосложения: как процесс высшего самоутверждения человеческого гения, как средство достижения небес, «познания Бога» и обретения духовной мощи на земле. «Ей [душе Поэта] дано от природы или она в себе сумела развить этот талант – чувствовать глубину неба и близость солнца, поняв однажды, что “для духа поражений нет”. Метафора “чувствовать глубину неба и близость солнца” в данном случае должна пониматься и как символ: она означает умение проникать в “небо” – мир духовного бытия, и познавать Бога – Солнце этого мира. Поэзия понимается как высший вид познания. Почему поэт к этому способен? Потому что Поэт – это тот, кто не подавляет в себе высшие потребности и способности души, а наоборот, позволяет им свободно развиваться – хотя это бывает подчас очень трудно в силу противодействия “среды” и господствующих сил материалистической цивилизации. <…> Подлинные поэты – это сыновья и дочери побед духа, они могут научить, “что делать”, “как не бояться”, потому что поняли свой удел – несение креста, изо всех сил любя и прорастая “желанием писать”». Сущность подлинной Поэзии глубоко религиозна…»[4]
Тем нагляднее противоречие этой, казалось бы, небольшой поэтической прибавки к собственному содержанию молитвы преподобного Ефрема, к которой «подлинный Поэт» делает как бы красивое предисловие, или введение, и… сам того не ведая, направляет читателя в противоположную подлинному смирению и покаянию сторону. Следующий за этим поэтический пересказ непосредственно текста молитвы преподобного Ефрема уже не отмечен серьезными искажениями, и в целом Пушкину удается адекватно передать ее содержание. Обращает на себя внимание лишь оппозиция «дарования» и «оживления» «духа» греховных страстей и «духа» христианских добродетелей, соответственно. Если первый «дух» поэт (следуя оригиналу) просит Бога «не дать ему», то второй (снова берясь за «религиозное творчество») – лишь «оживить» в нем, словно этот «дух» (с его «укрепляющей неведомой силой», то есть, благодать – в молитве преподобного Ефрема) присущ его человеческому естеству и требует лишь реанимации, будучи погребен в нем под натиском «дольних бурь и битв». Что возвращает нас к романтической антропологии и сотериологии (то есть гностической концепции самоспасения), которыми стихотворение Пушкина начиналось и которыми оно заканчивается.
Таким образом, если радикальному гностику Вернадскому для переживания своей «религиозности» «церковь и молитва» не требовались вообще, то в более умеренной форме пушкинского романтизма эта же самая, по сути, идеология может сочетаться с некоторыми элементами «православия», порождая такие религиозно-гуманистические химеры как гностическая «молитва», гностическая «харизма», гностическая «церковь» и т.п. «Пушкин <…> обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. <…> Какие глубокие, фантастические образы в поэме “Пир во время чумы”! <…> Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора, — но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история <…> Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана или “Подражания Корану”: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот “Египетские ночи”, вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем <…>. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось»[5]. И вот настал черед этому Всечеловеку «переложить» ортодоксальную молитву, «отозваться» и этому «духу» тоже, чудотворно «перевоплотиться» в православие, как того и требует гуманистическая религия, где все «духи», все веры и все народы мира суть воплощения единого «Мирового Духа». Так, Борис Гребенщиков как «подлинный Поэт» нашего времени чередует поездки на Афон и в Тибет; «песни о Боге», стилизованные под православие, и «песни о Боге», стилизованные под буддизм и кришнаизм.
Александр Буздалов
Сайт «Ветрово»
29 февраля 2020
[1] Вернадский В.И. Pro et contra. СПб., 2000. С.268-269. ↩
[2] Занегина А. «Отцы пустынники…». ↩
[3] Свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетическая проповедь. О молитве / Полн. собр. творений святителя Игнатия Брянчанинова. М., «Паломник», 2оо6. Т.1. С.128-129, 137-138, 140. ↩
[4] Даренский В. Живой космос русской культуры. ↩
[5] Достоевский Ф. Пушкин (очерк) / Дневник писателя. 1880, август, гл.2 / Д.,XXVI,146. ↩



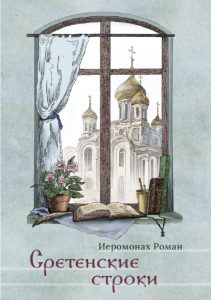




Простите, великодушно. Я не знаю отношения отца Романа к данной статье и подобным статьям А. Буздалова.
«…Конечно, не стоит поверять Пушкина православной догматикой, понятой как кодекс правил и «принципов». Истина есть Сам Господь, Бог-Троица, Истина есть Сам Христос, Его Личность, Его Рождество, Преображение, Воскресение, Его Пресвятая Матерь, — все то, что мирское искусство «изобразить» не может; догматы же суть иконы Истины. Но Пушкин икон не писал, он был мирской, светский писатель, и если есть в его творчестве подобие иконописности, то его нужно искать не на уровне изображения или воспроизведения догматов нашей веры, а в области его художественной методологии, его способа мыслить.
Между тем в наше время, как выше уже говорилось, возрождаются некоторые не самые удачные способы осмысления религиозного духа пушкинского творчества.
Так, например, вопрос об объективном религиозном, христианском смысле творчества Пушкина, о его вкладе в православную культуру слишком часто подменяется вопросом о его личном исповедании, личной вере: вместо того чтобы изучать смысл написанного Пушкиным, ставят вопрос о том, насколько он был верующий человек, и, более того, пытаются самодеятельно решать этот вопрос. Оценка веры брата во Христе (по крайней мере, если на этот счет нет соборного суждения Церкви) есть, по слову Гоголя, дело страшное. Вера — не «состояние», а процесс и путь: ведь «все мы много согрешаем» (Иак. 3:2), тогда как совершенная вера преграждает дорогу греху. Личная вера любого христианина, пусть находящая выражение в самых строгих видимых формах, это, в своем конкретном экзистенциальном существе,- тайна, которая велика есть. Определить и оценить веру брата во Христе — значит попытаться подвести итог процессу, представить «состоянием» то, что есть путь, «разоблачить» тайну; это есть суд, и здесь поистине «не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1), — мы по существу подвергаем суду и оценке меру образа Божия в человеке — и тут уж какою мерой мерим, такою и нам отмеряется; ибо, судя, мы уже пожертвовали своею верой, своим доверием — своему «знанию», уже свидетельствуем о недостаточности нашей веры.
Ведь мало кто из нас, будь то мирянин или лицо духовного звания, может с чистым сердцем свидетельствовать о всегда равно незыблемой твердости своей веры: поистине, «все мы много согрешаем», все «падаем и восстаем». Но все это, как правило, остается в глубине и тайне нашей души: мы молчим, открываясь разве на исповеди или, в порыве откровенности, избранным ближайшим людям. А поэт Пушкин отличается от нас тем, что не молчит. Он не утаивает от нас самоотчета в преткновениях, сомнениях, падениях, блужданиях — он насквозь исповедален. Это не потому, что ему так нравится, — просто таково свойство его поэзии: слово не отражает его внутреннюю жизнь (с неизбежной частичностью, свойственной всякому «отражению»), а целостно являет эту жизнь. Такое свойство ставит поэта в крайне «невыгодное» по сравнению с нами положение: он не может произвольно отобрать из своего образа, из своей исповеди, наиболее «презентабельное», всякий может при желании ткнуть пальцем в то или иное слово и, заменив пушкинское «я» на отчужденное «он» («смотрите: напрасно он бежит к сионским высотам: грех алчный гонится за ним по пятам!»), тем самым представить поэта хуже и ниже нас — тогда как он лишь беззащитнее — и впасть в грех превознесшегося над мытарем фарисея.
А между тем если собрать самые откровенные пушкинские признания и самые суровые самобичевания и честно сопоставить получившуюся картину с нашим собственным, нелицеприятным по всей совести, портретом, с нашими духовными падениями — порой в такие бездны, какие, может быть, и не снились Александру Сергеевичу, — то, сравнивая, не поразимся ли мы чистоте человека, с таким «отвращением» взирающего на свои — в общем обычные, нам знакомые, едва ли не «рутинные» в условиях суетного мирского бытия — грехи; и не угадаем ли в этой совестливости, в непоколебимой иерархичности требовательного сознания — источник того очевидного для всех света, который излучается пушкинским словом невзирая на все падения и блуждания автора?»
«Христианство Пушкина: проблема и легенды» (глава из книги В.С. Непомнящего «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»):
https://azbyka.ru/fiction/da-vedayut-potomki-pravoslavnyx-pushkin-rossiya-my/#n5
Книга В.С. Непомнящего «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»: https://azbyka.ru/fiction/da-vedayut-potomki-pravoslavnyx-pushkin-rossiya-my/
И ещё, если позволите, отрывок из главы «Христианство Пушкина: проблема и легенды» книги В.С. Непомнящего «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»:
«Порой возрождаются самые примитивные и начетнические представления и методы — вплоть до прямой «сверки» образной системы пушкинских произведений со Священным Писанием и догматическими положениями, в результате чего многим произведениям Пушкина, и не только его, грозит — в практике некоторых школ и преподавателей — чуть ли не отлучение от курса литературы. Вообще, то там, то здесь культивируется своего рода «православный снобизм» в отношении к светской культуре; в ходу бывает кичливое пренебрежение к специфике художественного мышления, когда простая некомпетентность и эстетическая глухота рядятся в одежды христианского правоверия.
С другой стороны, если советская наука делала из Пушкина закоренелого атеиста (впрочем, некоторые православные и сегодня продолжают эту традицию), то теперь новую и активную жизнь получают старые легенды, искажающие подлинный облик поэта, создающие приторно-благочестивый портрет, жизнь из которого ушла. Самое прискорбное, что при этом порой не гнушаются никакими средствами — лишь бы достигнуть цели.
Такое стремление «поднажать» на Пушкина, чтобы сделать его более «православным», не редкость. Мы не всегда даем себе труд задуматься о том, что связи Пушкина с нашим исповеданием куда более глубоки, чем думают иные доброхоты,- и именно в силу своей глубины менее очевидны, не выпирают, не лезут в глаза. Более того, среди части нашего духовенства и мирян распространено убеждение, что светская культура вообще-то может, да и должна бы, уподобиться культуре церковной — тогда-то, мол, она и станет совсем «правильной». Искусству, пишет сегодня протоиерей Владислав Свешников, следует «отказаться от культа автономности». Если такой логике быть последовательной (слово «культ» здесь по существу тактическая оговорка) — тогда светское искусство, не отказавшееся от «автономности» (то есть сохранившее свою собственную специфику, собственные свойства и средства), несомненно подлежит прещению и отмене — по крайней мере, в системе церковного просвещения. Между тем еще в 60-х годах протоиерей (позже — архимандрит) Александр Семенов-Тян-Шанский утверждал: для того чтобы «доходить до сердца человека», «искусство христианское должно быть автономным, то есть оставаться при своих средствах».
Ведь человеческое, мирское искусство есть не что иное как адамово воздыхание падшего мира: «Раю мой, Раю!», созерцание — «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1Кор. 13:12) — мира истины, добра, красоты — созерцание, милостью Божией оставленное падшему, однако не утерявшему образа Божия человечеству. Искусству не под силу, по самому его происхождению, поставить падшего человека «лицом к лицу» (там же) с горним миром, познать его «подобно как я познан» (там же) — даже претендовать на это оно не должно: язык его опосредован, ибо «стекло», за которым утраченный мир, — тускло. Эта опосредованность и есть «автономность» мирского искусства: свидетельствуя, в меру сил, о мире истинном, само оно существует в мире падшем, больном, и обращается не к здоровым, но к больным, с эллинами говорит как эллин, с иудеями — как иудей. Требовать, чтобы земное искусство говорило непосредственно «небесным» языком — значит думать, что Царство Божие осуществимо — или «почти» осуществимо — в падшем мире; а потому подобные требования могут, с Долей условности, быть названы эстетическим хилиазмом.
А ведь искусство — хоть ему и свойственно устремляться к небу — рождается в мире, который пал, который лежит во зле и в который пришел Спаситель. Поэтому в реальном своем бытовании искусство бывает разное: устремленное вверх и тяготеющее вниз; повинующееся Божественному заданию, отвечающее на жертву Сына Божия — и подчиняющееся лишь «природному» естеству, корень которого — чувственное начало, покорное любой из стихий этого мира. Власть естества, если она доминирует, отдаляет от неба даже гения; устремленность же к небу, к идеалу Христа, способна в истинном искусстве «заражать» собою и естество. В 1937 году в Париже протоиерей Сергий Булгаков говорил: «Человеческому сердцу дано растлевать красоту и растлеваться ею, и властью этой обладает искусство. В низинах его пресмыкается блуд, на вершинах горит заря бессмертия».
протоиерею Александру сказать: «…Христианское искусство должно отражать целостность христианской души… Мир Пушкина построен иерархически, и это есть следствие не какого-либо, а христианского мировоззрения, мировосприятия. Пушкин дает нам один большой жизненный урок. Дает он его своим смирением в самом главном, что дано ему было совершить. Смирение это в том, что, получив свыше чудесный дар, он не покусился присвоить его себе безвозвратно для своего личного возвеличения или игры». Тот же автор говорит: «В христианском мире сила искусства имеет, конечно, свои границы», искусство «только призывает войти во храм христианской жизни, украшает его, но затихает, умолкает у самого жертвенника, у Престола… там да молчит всякая плоть». В свете этого достойно внимания, что перед тем как затихнуть, умолкнуть навсегда, Пушкин подвел итог своему делу в стихотворении, строение которого непоколебимо иерархично, в котором и авторское «я» («Я памятник себе воздвиг…»), и все высокие человеческие ценности, о коих идет речь,- все затихает, умолкает перед «Веленьем Божиим», все поглощается темой послушания созидательной Высшей воле.
Да, «житейские» и «теоретические» суждения Пушкина на христианские темы, некоторые его творческие поступки могут быть, с точки зрения буквы, странны, не очень «грамотны», порой даже предосудительны: взять хоть пресловутое именование невесты «Мадоной» (1830), или защиту протестантизма от нападок «Чаадаева с братией» (1831;XIV,204), или утверждение, что «греческая Церковь… остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа» (там же), или неловкое приписывание Евангелию не более и не менее как «божественного красноречия» (XII,99),- примеры можно продолжать, все это было приметой общества, к которому он принадлежал. Но все это нисколько не колеблет того неоспоримого факта, что полнота и ясность непосредственного пушкинского созерцания Божьего мира, воплощаемые не в «теоретических» формулировках, а на языке искусства, отражают идеалы такой высоты, которая граничит с неотмирностью, составляющей одну из ключевых черт православного строя мысли и чувств.
Вообще, размышляя о пушкинском личном религиозном опыте, нельзя конструировать законченную и уже поэтому абстрактную «модель» пушкинской веры, соответствующую нашим собственным представлениям,- замалчивая одно, ретушируя другое, педалируя третье.
Не следует ни подвергать благочестивому подозрению пушкинский религиозный путь, ни изо всех сил доказывать, какой верующий и православный человек был Александр Сергеевич чуть ли не с отроческих лицейских лет; на каждый довод можно найти иной, противоположный, и мы не выйдем из порочного круга «стрижено-брито», из бесконечных дискуссий, профанирующих и Пушкина, и нашу веру.
У одного человека было два сына; и он, подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь; и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
(Мф. 21:28-31)
…Стихотворение «Отцы пустынники…» это прежде всего лирическое стихотворение, выражающее глубоко личное, можно сказать, интимное переживание поэтом молитвы, которую он любил всю жизнь, даже в молодости, когда считал себя неверующим, и полускрытую реминисценцию которой внес в последние строки ни более ни менее как «Гавриилиады».
Во вступлении чрезвычайно подробно излагается личное отношение поэта к молитве преподобного Ефрема Сирина — причем обнаруживается прекрасное знание автором порядка, чина ее произнесения в храме во время Великого Поста («…которую священник повторяет…») — и то действие, которое она на него производит: «И падшего крепит неведомою силой». Только после этого личного признания идет переложение самого текста. В нем все не случайно, и прежде всего — изменения, которые внесены в переложение сравнительно с оригиналом: вместо «Дух праздности, уныния…» — «Дух праздности унылой»; вместо «не даждь ми» — «не дай душе моей». В особенности важно дополнение: «Любоначалия, змеи сокрытой сей», — которое подчеркивает особое внимание автора, поэта, слывущего властителем дум, обладающего «могучей властью над умами», к грозящей ему опасности: соблазну духовного владычества над людьми. К тому же сами прошения подвергнуты такой перестановке, которая, по-видимому, отвечает духовным обстоятельствам просящего: так, например, прошение о «целомудрии» поставлено в финальную, то есть в самую сильную, позицию. Наконец, вместо «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему» — «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи», — эта замена слова тоже не случайна: тема возрождения, оживления всего светлого, что Богом заложено в человеческую душу с ее «первоначальных, чистых дней» («Возрождение»), есть одна из важнейших лирических тем Пушкина, и напрасно один современный критик слышит в глаголе «оживи» «протестантские» веяния: царь Давид, кажется, не был протестантом, а сказал так: «…и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50:12). Думается, именно веяние «покаянного» псалма слышится в пушкинском переложении великопостной молитвы.
Каждому знающему, что такое личная молитва, известно, что в разных обстоятельствах, внешних и внутренних, мы можем по-разному произносить один и тот же молитвенный текст, по-разному его интонировать. Пушкинское стихотворение и входящее в него переложение молитвы дают нам как бы словесное изображение личной интонации поэта, его личной просьбы, выражаемой знакомым с детства текстом, — вот откуда лиризм всей вещи, в частности, ее вступления, занимающего больше половины текста; отсюда же и все изменения, говорящие о том, что перед нами не вычитывание — но и не переводческое «состязание» с оригиналом, — а глубокое, индивидуальное, конкретное переживание, творение молитвы, излившееся в стихах.
Есть и иные легенды. Они строятся на вере в некий готовый стереотип образа Божия, применимый к любому человеку без исключения, игнорируют единственность каждого человека и его духовного пути, отвергают сокровенную тайну личности, которая священна для христианской веры как веры персоналистической. Они исходят, можно сказать, из желания, чтобы у отца из евангельской притчи (см. эпиграф) было не два сына, о которых повествует евангелист Матфей, а три; чтобы третий ответил отцу: «пойду» — и пошел; и чтобы верующий человек был похож именно и только на этого третьего.
Отсюда и образ безупречно благочестивого, лампадным маслом пишущего стихотворца, в котором Пушкина узнать трудно: такому литератору лучше бросить сочинительство, а уж стреляться с кем бы то ни было этот раб Божий и помыслить не может.
Такие благонамеренные «обманы» вовсе не «возвышают» ни Пушкина, ни нас, а лишь говорят о горделивом желании «добавить» поэту религиозности, уделить ему веры от своих щедрот. Но как раз здесь дефект нашей веры. Истинно религиозное понимание предмета — это целостное его понимание, целостное во всех его противоречиях, в их связях с целым, в процессе и тайне. Сама вера и есть, собственно, воплощенная целостность, предполагающая уравновешенность души и сердечную непротиворечивость картины мира, как бы ни был мир непригляден и трагичен,- непротиворечивость, сказывающуюся в понимании Божественной иерархии ценностей и покоящуюся на любви к Богу, Его Творению и Его созданиям. И если я, будучи верующим, но все же не обретая иерархически целостного понимания или ощущения некоего явления как творения Божия, и притом во всех его противоречиях, все же пытаюсь насильно, в смятом или обструганном, ухудшенном или приукрашенном виде, втиснуть его в мою христианскую картину мира (или таковою представляющуюся) — значит, при всей моей вере, недостаточно религиозен мой к этому явлению подход; значит, мало еще моей веры в нем, значит, моя любовь не «все покрывает» в Божьем творении, не «всему верит» в нем, а потому к Божьему замыслу и промыслу о человеке как свободном существе хочет добавить, для «усовершенствования», что-то от своего собственного «замысла».
Истинно религиозный подход к явлению состоит не в приложении к нему наших — пусть самых наиправославных — «принципов». Христианский подход к познанию есть вопрос не «принципов», а методологии, не «христианских требований», а христианского мышления, основанного на любви. Реальный духовный путь Пушкина был не прост; и правда этого пути, правда самой жизни этой личности, противоречивая, но данная или попущенная Самим Богом, заключает в себе больше глубокого, подлинно религиозного смысла, больше истины, добра и красоты, чем самая красивая и благочестивая выдумка, принадлежащая людям. Личный путь Пушкина был не прост как раз потому, что Пушкин чувствовал и сознавал свой гений, свой творческий дар как не свою ношу, а на это не каждый художник способен. Пушкину было дано чувствовать и мыслить по-христиански, было дано благое иго (Мф. 11:30) по-христиански «мыслить и страдать». Понимая это, мы не можем ни обожествлять, ни судить смертного и грешного, как мы, человека, одаренного божественным гением, мы можем только — как учит святой праведный Иоанн Кронштадтский — «восходить тотчас мысленно к высшей, личной Красоте Божией и Ею восхищаться».»
Рады приветствовать Вас на ВетрОво, уважаемый Виктор! Пушкин — наше всё! Вы согласны с этим утверждением? А если так, то наряду с нашими успехами, Пушкин является и нашими недостатками, вместе с достижения он оказывается и нашими промахами. Какое бы сравнение привести? Как Богочеловек Иисус Христос воспринял всю человеческую природу со всеми её грехами и пороками, так и Пушкин, будучи всечеловеком и таким русским, каким, по слову Гоголя, русский человек явится в его развитии чрез двести лет (отсчитываем от времени написания Гоголем этих слов 200 лет и получаем 1832+200=2032, т.е. 12 годков осталось до явления того всеобщего всерусского всечеловека, каким его в одиночном экземпляре явил мiру А.С. Пушкин), воспринял в себя не только лучшие, но и худшие его черты.
На Ветрово мы стараемся изучать творчество Пушкина во всей полноте. Поэтому к статье А.В. Буздалова какие у Вас вопросы возникли? Не могли бы Вы их своими словами выразить без копипасты из Валентина Семёновича Непомнящего? Противоречия и определённую идейную наклонность этого пушкиноведа мы уже разбирали. Например, Непомнящий пишет: «Идеал же человека воплощен Пушкиным в Татьяне: он так и говорит — «мой верный идеал». Почему же этот идеал воплощен в женщине? Потому, вероятно, что женщина во многом сильнее (!) мужчины, часто бывает мудрее (!) его — ибо она более цельное (!) существо, в ней меньше разлада между мыслью и чувством (!), ее интуиция бывает глубже, ей более свойственна верность своему чувству и убеждению, она нередко взрослее и ответственнее (!), чем мужчина (все восклицания мои. — Г.С.)».
Теперь сопоставьте слова Гоголя со словами Непомнящего. Что получится? Получится поздравление россиян с Днём идеального русского человека – 8-м Марта. С чем Вас и поздравляю, уважаемый Виктор. Лучше всё же признать, что В. С. Непомнящий ошибается, когда пишет подобные глупости. Как Вы думаете? К тому же, отношение Пушкина к женщине было вовсе не таким, как его выдумывает Валентин Семёнович.
Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их [женской] легкой, ветреной души;
Не чисто в них [женщинах] воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак Бога, вдохновенье
Для них [женщин] и чуждо и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими [женщинами] стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих,
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?..
(Стихотворение «Вазговор книгопродавца с поэтом» написано 26 сентября 1824 г., вскоре по приезде в Михайловское, появилось в печати в качестве предисловия к первой главе «Евгения Онегина»).
Откуда же Валентин Семёнович взял, что Пушкин относился к женщине как к существу, которое «во многом сильнее мужчины, часто бывает мудрее его — ибо она более цельное существо, в ней меньше разлада между мыслью и чувством, ее интуиция бывает глубже, ей более свойственна верность своему чувству и убеждению, она нередко взрослее и ответственнее, чем мужчина». Откуда Непомнящий взял это? Из своей головы. А точнее из иудаистических представлений, которые уже настолько безумны, что отцовство считают по матери. Позвольте посоветовать Вам, уважаемый Виктор, труды В.С. Непомнящего читать с поправкой на такое устроение его головы.