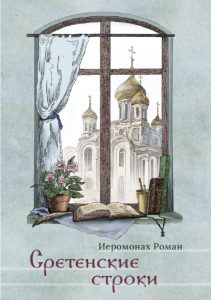Вторая часть статьи «Пушкин и Белинский» (в сокращении)
Публикуя эту статью Д. И. Писарева, хотим оговорить, что не разделяем революционно-демократических взглядов критика, полагавшего, что предназначение поэта — быть «руководителем общественного сознания». Борясь с эстетизмом и считая творчество многих русских классиков «пройденной ступенью», Писарев не мог предложить взамен ничего, кроме идеи «разумного прогресса», оказавшейся губительной для России. Высмеивая постоянные отсылки Пушкина к языческой античности, критик и не думал противопоставить язычеству христианство.
Однако мы считаем, что эта статья может быть полезной нашим читателям: Писарев, не возводя Пушкина на пьедестал (как поступала большая часть его и наших современников) и не увлекаясь прекрасной формой его стихов, скурпулезно анализирует их содержание, вскрывая противоречия и подчас обнаруживая ничтожность смысла.
I.
 С лишком двадцать лет тому назад, именно в 1844 году, была напечатана в «Отечественных Записках» пятая статья Белинского о Пушкине. Вот оглавление этой статьи: «Взгляд на русскую критику.— Понятие о современней критике.— Исследование пафоса поэта, как первая задача критики.— Пафос поэзии Пушкина вообще.— Разбор лирических произведений Пушкина».— В этой статье Белинского встречаются более или менее определенные намеки на все те идеи, которыми живет наша теперешняя реальная критика. В этой же самой статье Белинский предается самым необузданным эстетическим восторгам. Читая внимательно эту статью, мы видим, как эстетик борется в Белинском с общественным деятелем, и предчувствуем, что победа непременно должна склониться на сторону последнего. Чтобы доказать читающей публике кровное родство реальной критики с Белинским, я приведу из этой статьи, напечатанной двадцать лет тому назад, несколько обширных выписок.
С лишком двадцать лет тому назад, именно в 1844 году, была напечатана в «Отечественных Записках» пятая статья Белинского о Пушкине. Вот оглавление этой статьи: «Взгляд на русскую критику.— Понятие о современней критике.— Исследование пафоса поэта, как первая задача критики.— Пафос поэзии Пушкина вообще.— Разбор лирических произведений Пушкина».— В этой статье Белинского встречаются более или менее определенные намеки на все те идеи, которыми живет наша теперешняя реальная критика. В этой же самой статье Белинский предается самым необузданным эстетическим восторгам. Читая внимательно эту статью, мы видим, как эстетик борется в Белинском с общественным деятелем, и предчувствуем, что победа непременно должна склониться на сторону последнего. Чтобы доказать читающей публике кровное родство реальной критики с Белинским, я приведу из этой статьи, напечатанной двадцать лет тому назад, несколько обширных выписок.
«Гёте где-то сказал: «какого читателя желаю я?— Такого, который бы меня, себя и целый мир забыл и жил бы только в книге моей». Некоторые немецкие аристархи оперлись на это выражение великого поэта, как на основной краеугольный камень эстетической критики. И однако ж односторонность гётевой мысли очевидна. Подобное требование очень выгодно для всякого поэта, не только великого, но и маленького; приняв его на веру и безусловно, критика только и делала бы, что кланялась в пояс то тому, то другому поэту, ибо так как все имеет свою причину и основание — даже эгоизм, дурное направление, самое невежество поэта, то, если критик будет смотреть на произведение поэта без всякого отношения к его личности, забыв о самом себе и целом мире,— естественно, что творения этого поэта, будь они только ознаменованы большей или меньшей степенью таланта, явятся непогрешительными и достойными безусловной похвалы».
Из приведенных слов читатель видит, что у Гёте была губа не дура и что он придумал очень верное средство затушевать слабые стороны своей поэтической деятельности. Чистые эстетики приняли искусную выдумку Гёте за святую истину, но Белинский оказался гораздо проницательнее немецких аристархов и таким образом внес в критику элемент, совершенно враждебный эстетике. В словах Белинского мы видим ясное выражение той идеи, что поэтический талант один сам по себе еще не дает поэту права пользоваться уважением и сочувствием современников и потомства. Белинский относится очень сурово к невежеству поэта, к дурному направлению и к эгоизму. Слово эгоизм, конечно, употреблено неправильно; но так как этим словом Белинский, очевидно, хочет обозначить узкость ума и мелкость чувства, то с его идеей мы можем совершенно согласиться. Если, таким образом, критика, по мнению Белинского, должна непременно требовать от поэта широкого умственного развития, хорошего, то есть честного направления и разумной любви к человечеству, то, очевидно, критика Добролюбова и теперешняя критика «Русского Слова» по своему основному принципу совершенно соответствуют стремлениям Белинского. Критика Белинского, критика Добролюбова и критика «Русского Слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом более и более очищается от всяких посторонних примесей.
«При немецкой апатической терпимости ко всему, что бывает и делается на белом свете,— продолжает Белинский,— при немецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не может сделаться ничем, мысль, высказанная Гёте, поставляет искусство целью самому себе и через это самое освобождает его от всякого соотношения с жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни».
Как вам это нравится, господа читатели? Уже в 1844 г. была провозглашена в русской журналистике та великая идея, что искусство не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства. А слишком двадцать лет спустя, тот самый журнал, который бросил русскому обществу эти две блестящие и плодотворные идеи, с тупым самодовольством восстает против «Эстетических отношений», которые целиком построены на этих двух идеях. Этот поучительный факт доказывает ясно, что человеческая мысль не может стоять на одном месте. Когда она не хочет или не умеет двигаться вперед, тогда она поневоле пятится назад. «Отечественные Записки» хотели забастовать на Белинском. Оказывается теперь, что они забыли Белинского и подвинулись к двадцатым годам нынешнего столетия. «Современник» хочет забастовать на Добролюбове, и мы видим, действительно, что «Современник» быстро забывает Добролюбова и также путешествует в область двадцатых годов. Повторять слова учителя — не значит быть его продолжателем. Надо понимать ту цель, к которой шел учитель. Идя к известной цели, учитель произносил известные слова. В ту минуту, когда эти слова произносились, они, действительно, подвигали людей вперед к предположенной цели. Но когда эти слова уже подействовали, когда люди, подчиняясь их влиянию, сделали несколько шагов вперед, тогда все положение вопроса обрисовывается иначе, тогда произнесенные слова теряют свою двигательную силу и, следовательно, перестают быть уместными, полезными и целесообразными. Тогда надо произносить новые слова, применяя их к новым потребностям времени; эти новые слова могут находиться в резком разногласии с старыми словами, и это разногласие нисколько не мешает ни тем ни другим быть одинаково верными выражениями одной и той же основной тенденции.
Основная тенденция всей критической школы Белинского, продолжающей действовать и развиваться до настоящей минуты, выражается совершенно ясно и отчетливо в тех двух положениях, что искусство, не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства. Из этих двух простых и скромных положений выводятся совершенно логично и неизбежно все самые смелые и блистательные salto mortale моего уважаемого сотрудника г. Зайцева, на которого смотрят до сих пор с таким непритворным ужасом и с таким комическим недоумением все солидные тихоходы нашей периодической литературы.— При тех условиях, при которых развивался и действовал Белинский, он, конечно, не мог вывести из этих двух положений все их логические последствия. В сороковых годах он даже не мог их предвидеть. Он ежеминутно уклоняется в своей деятельности от этих двух основных положений, но смысл и сила его деятельности заключаются, конечно, не в этих случайных нарушениях логики. Высказать верную мысль еще не значит последовательно провести эту мысль в анализ. всех явлений жизни, науки и искусства. Вторая задача, разумеется, гораздо труднее и многосложнее первой. Если высказанная мысль действительно велика и плодотворна, то на ее последовательное проведение могут потратиться силы нескольких поколений. Эта завидная участь выпала на долю мыслям Белинского. В продолжение двадцати лет лучшие люди русской литературы развивают его мысли и впереди еще не видно конца этой работе. Та тесная родственная связь, которая, несомненно, существует между Белинским и теперешними реалистами, доказывает, с одной стороны, умственное величие нашего общего учителя, а с другой стороны — то обстоятельство, что так называемый нигилизм есть дитя нашего времени, имеющее своих законных и весьма почтенных родителей в прошедшем периоде нашей умственной жизни. Проклиная нигилизм, солидные люди очень охотно вычеркивают из истории русской литературы «Эстетические отношения» и Добролюбова, в которых они видят случайные или болезненные явления. Теперь я попрошу солидных людей, для радикального уничтожения нигилистов, начать работу вычеркивания с Виссариона Белинского. Года четыре тому назад «Русский Вестник», как самый последовательный и дальновидный враг нигилизма, действительно попробовал занести руку и на Белинского. В 1861 году г. Лонгинов силился уличить Белинского в заносчивом невежестве. Если бы эта попытка увенчалась успехом, тогда по всей вероятности яд вольнодумства был бы искоренен вполне, и настоящими, здоровыми и совершенно незаподозренными представителями русской мысли оказались бы: в прошедшем — г.г. Мерзляков и Шевырев, а в настоящем — г.г. Лонгинов и Анненков. Вся остальная русская критика была бы причислена к ложным и отреченным книгам. Этот результат был бы, конечно, очень блистателен и утешителен, но, к сожалению, усердная попытка г. Лонгинова осталась, по какой-то необъяснимой случайности, совершенно незамеченного.— Советую солидным людям повторить эту попытку, потому что для искоренения нигилизма необходимо убить Белинского во мнении русского общества.
II.
«Действительно, — продолжает Белинский, — немецкая критика при рассматривании произведений искусства всегда опирается на само искусство и на дух художника. И потому исключительно вращается в тесной сфере эстетики, выходя из нее только для того, чтоб обращаться изредка к характеристике личности поэта, а на историю, общество,— словом, на жизнь не обращает никакого внимания. И оттого жизнь давно уже оставила тех немецких поэтов, которые своими произведениями угождают такой критике».
Немецкая критика, против которой восстают Белинский и сама жизнь, поступает в высшей степени благоразумно. Она тщательно поддерживает те перегородки, которых падение красноречиво оплакивает несчастный преемник Белинского в «Отечественных Записках», г. Incognito. Когда эта немецкая критика говорит об искусстве, тогда она и опирается на само искусство. Если же Белинский находит сферу эстетики тесною, если он требует, чтобы критика вырвалась из этой тесной сферы и ветупила в беспредельный мир действительной жизни — прешедшей и настоящей,— то он, очевидно, оказывается гнусным сообщником нынешней реальной критики.— Но чтобы показать солидным людям, что Белинский еще не совсем пропащий человек, и чтобы напомнить несолидным мальчишкам и девчонкам, что Белинский еще не совсем последовательный реалист, я прошу господ читателей, солидных и несолидных, отыскать в том же VIII томе и в той же критической статье страницу 352, на которой изображены следующие строки:
«Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если б мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства. В самом деле, что мудреного было бы сделаться поэтом и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом по нужде, по выгоде или по прихоти, если б для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не так это делается поэтами по натуре и по призванию! У того, кто не поэт по натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже свята,— произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем так-то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов! Придумайте ей, на досуге, мысль получше, да потом и обделайте ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото. Вот и дело с концом!»
Здесь Белинский, очевидно, платит очень богатую дань тому эстетическому мистицизму, который проводит резкую разделительную черту между поэтами и простыми смертными. Поэтом надо родиться, поэт — высшая натура, на его высоком челе горит печать его высокого призвания, процесс творчества составляет непостижимую тайну,— все эти глупые фразы принимаются эстетиками за чистую монету, и даже острый ум Белинского не всегда умеет устоять против одуряющей атмосферы подобных фраз. Поэты, разумеется, очень рады производить себя в полубоги и, видя, что им верят на слово, интересничают и шарлатанят без зазрения совести. Большая часть их времени и их умственных сил уходит на делишки, на картишки, на интрижки, а между тем они стараются уверить и себя и других, что постоянно созерцают духовными очами высокие идеи или прекрасные образы. Ни дать ни взять, тот Александр Иванович, который навязывает Зюзюшке бумажку на хвост, а между тем при появлении приятеля тотчас принимает удрученный вид, свойственный ревностному администратору, преобразовавшему целый департамент. Шарлатанство поэтов проявляется особенно ярко в том высоком и туманном слоге, которым они любят говорить о таинственном процессе творчества. Один уверяет, что он, как бог, ходит по чертогам Зевса; другой заявляет, что его сердце не полый мускул, а родник, и что его стихи не рифмованные строчки, а волна. Третий объясняет, что юная Татьяна и с нею Онегин являлись ему в смутном сне и что он неясно, различал даль свободного романа сквозь магический кристалл. Наслушается добродушный и доверчивый человек этих удивительных речей, от которых уши вянут, наслушается и поневоле погрузится в недоумение. Ведь вот, подумает он, я тоже размышляю, тоже увлекаюсь моими мыслями, их тоже излагаю иногда на бумаге, а между тем со мною никогда не происходит ничего такого, что привело бы мне в голову чертоги Зевса, или сердце, выпускающее из себя рифмованную волну, или магический кристалл, заключающий в себе даль свободного романа. Не может же быть, чтобы все эти стихотворцы говорили чистую и ни на чем неоснованную ложь; надо, стало быть, полагать, что в их нервной системе действительно происходят какие-то такие эволюции, которых я не испытываю и неспособен испытать. Значит, они — высшие натуры, а я — низшая или обыкновенная натура. И рождается таким образом, благодаря отъявленному шарлатанству одних и трогательной доверчивости других, тот эстетический мистицизм, которым глубоко заражен Белинский и от которого не совсем уберегся даже Добролюбов. Этот мистический туман рассеивается однако при первом прикосновении трезвой критики.
Если для существования искусства необходима привилегированная каста жрецов Аполлона, то, разумеется, трезвая критика убивает искусство, потому что она превращает его в общее достояние всех умных людей. Белинский полагает, что немудрено было бы создавать поэтические произведения, если бы для этого надо было только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму. На самом деле все поэтические произведения создаются именно таким образом:, тот человек, которого мы называем поэтом, придумывает какую-нибудь мысль и потом втискивает ее в придуманную форму. Это втискивание обыкновенно стоит поэту очень большого труда; сначала он набрасывает план своего будущего произведения, потом придумывает отдельные сцены, картины и подробности, потом шлифует язык или стих. Ни стройность плана, ни красота подробностей, ни картинность языка, ни внешнее изящество стиха;— словом, ни одно из достоинств поэтического произведения не даются поэту сразу. Оконченное произведение обыкновенно представляет очень мало сходства с первоначальным замыслом. Весь остов поэтического произведения подвергается во время работы очень значительном и глубоким видоизменениям. Одни подробности, которые сначала казались поэту необходимыми, оказываются излишними и неуместными; другие подробности, которых он сначала не имел в виду, оказываются необходимыми. Поэт, как плохой портной, кроит и перекраивает, урезывает и приставляет, сшивает и утюжит до тех пор, пока не получится в окончательном результате нечто правдоподобное и благообразное. Желающие могут найти в «Материалах для биографии Пушкина», собранных г. Анненковым, многочисленные примеры той тяжелой черной работы, посредством которой Пушкин втискивал придуманную мысль в придуманную форму. Если поэт действительно придумывает и втискивает, то стало быть всякий, кто умеет хорошо придумать и хорошо втиснуть, может сделаться замечательным поэтом. Это несомненно, но следует ли из этого то заключение, что поэтом сделаться немудрено?— Нисколько не следует. Придумать мысль, как выражается Белинский, совсем не легко. Умные мысли приходят в голову только умным людям, и приходят сами, помимо нашей воли. Придумать мысль, то-есть привести ее насильно к себе в голову, нет даже никакой возможности. Затем, когда мысль пришла в голову, необходимо много энергии и напряженного умственного труда для того, чтобы рассмотреть эту мысль со всех сторон и чтобы развить из нее все ее последствия. Наконец для того, чтобы передать другим людям ясно и отчетливо то, что вы сами поняли и перечувствовали, надо потратить очень много труда на втискивание мысли в форму. Ум, энергия, трудолюбие, техническая ловкость или сноровка,— все эти качества необходимы тому человеку, который хочет сделаться поэтом,— необходимы точно в такой же мере, в какой они необходимы тому человеку, который хочет сделаться оратором, профессором, адвокатом, историком, публицистом, критиком или вообще словесных дел мастером по какой бы то ни-было отрасли словесного искусства. Такой человек, к которому заходят в голову умные мысли, который умеет задерживать и разрабатывать эти мысли в своей голове и который, посредством упражнения, сделался мастером словесных, дел, такой человек, говорю я, может, если только пожелает, сделаться поэтом, то-есть создать несколько произведений, которые подействуют на читателей так точно, как действуют на них произведения, созданные настоящими, патентованными поэтами.
<…>
Белинский поясняет далее, что настоящий поэт является страстно влюбленным в идею, страстно проникнутым ею и что он созерцает ее не разумом, не рассудком, не чувством, но всею полнотою и целостью своего нравственного бытия.— Все это очень хорошо, но эти страстные отношения к идее вовсе не составляют исключительной особенности поэта. Все великие дела, совершенные замечательными людьми, были совершены именно посредством страсти. Разве Колумб не был страстно влюблен в свою идею, ради которой он, человек очень гордый и самостоятельный, таскался в продолжение восемнадцати лет, в качестве смиренного и убогого просителя, по прихожим разных португальских и испанских вельмож? Разве Джон Говард не был страстно влюблен в свою идею, ради которой он в течение своей жизни шлялся по тюрьмам и госпиталям? Разве аболиционист Джон Броун не был страстно влюблен в свою идею, ради которой он на старости лет пошел на виселицу? Бокль за несколько минут до своей смерти сокрушался исключительно о том, что ему не удается дописать до конца «Историю цивилизации в Англии». Разве этот человек не был страстно влюблен в свою идею? Когда Ньютон поверял свою теорию мирового тяготения посредством вычислений над движением луны, тогда он под конец вычисления почувствовал такое сильное волнение, что принужден был оставить работу и попросил одного из своих друзей докончить за него самую простую математическую выкладку. Разве этот человек не созерцал свою идею всею полнотою и целостью своего нравственного бытия?— Желая исследовать вопрос о питательных свойствах сахара, доктор Старик стал производить опыты над самим собою и так долго продовольствовал себя исключительно сахаром, что наконец занемог и умер от истощения сил. Кажется, страстнее, безграничнее и даже безумнее этой любви к идее невозможно себе ничего вообразить. Вообще, если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примеры тех странных отношений, которые могут существовать между человеком и идеей, то вы должны будете обратиться не к художникам, а к исследователям или к политическим деятелям. К чести человеческой природы вообще и человеческого ума в особенности, надо заметить, что до сих пор, кажется, ни один человек не пошел на смерть за то, что он считал красивым, и что, напротив того, нет числа тем людям, которые с радостью отдавали жизнь за то, что они считали истинным или общеполезным. У искусства не было и не может быть мучеников. Наука и общественная жизнь, напротив того, уже давно потеряли счет своим мученикам.
Таким образом мы видим, что способность влюбляться в идею никак не должна считаться исключительною привилегиею художников. Эта способность составляет тот священный огонь, без которого вообще невозможен и немыслим сознательный прогресс человечества. Этою способностью в гораздо сильнейшей степени, чем художники, обладают те люди, которых мы привыкли называть холодными и положительными прозаиками, спокойными, суровыми и черствыми деятелями жизни или науки. Вильгельм Оранский, освободитель Нидерландов, Фердинанд Магеллан, съевший вместе с своим экипажем всех мышей и все кожаные вещи своего корабля для того, чтобы довести до конца свое кругосветное плавание, Джон Лильберн, боровшийся в течение всей своей жизни, словом и пером, сначала с самовластием Карла I, а потом с самовластием Кромвеля,— все эти люди, разумеется, любили идею гораздо страстнее, чем умели любить ее те господа, которые из любви к ней писали приятные стихи или потрясательные драмы. Если деятели науки и жизни не пишут стихов и драм, то, разумеется, это происходит не оттого, что у них не хватает ума, и не оттого, что в них слаба любовь к идее, а, напротив, именно оттого, что размеры их ума и сила их любви не позволяют им удовлетворяться создаванием красивых беллетристических произведений. Эти люди тоже поэты, но их поэмами оказываются их великие дела, которые, разумеется, не только полезнее, но даже грандиознее всевозможных илиад и всевозможных шекспировских драм. И различие между поэтами и не-поэтами, которое хотят установить эстетики и вместе с ними полуэстетик Белинский, оказывается пустым оптическим обманом. То известное латинское изречение, что оратором можно сделаться, а поэтом надо родиться, оказывается чистою нелепостью. Поэтом можно сделаться точно так же, как можно сделаться адвокатом, профессором, публицистом, сапожником или часовщиком. Стихотворец или вообще беллетрист, или, еще шире, вообще художник — такой же точно ремесленник, как и все остальные ремесленники, удовлетворяющие своим трудом различным естественным или искусственным потребностям общества. Подобно всем остальным ремесленникам, поэт или художник нуждается в известных врожденных способностях; но та доза способностей, которая необходима для того, чтобы человек мог приступить к изучению ремесла, встречается обыкновенно у всех нормальных и здоровых экземпляров человеческой породы. Затем все остальное довершается в образовании художника впечатлениями жизни, чтением и размышлением, и преимущественно упражнением и навыком. Как только эти предварительные занятия дали человеку способность придумывать идеи и втискивать их в формы, так поэт оказывается готовым к услугам всех любителей легкого чтения.
III.
Чтобы окончательно реабилитировать Белинского в глазах солидных людей, я приведу его отзыв о стихе Пушкина. «И что же это за стих!— восклицает наш критик.— Античная пластика и строгая простота сочетались в нем с обаятельной игрой романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русского языка: явилась в нем в удивительной цолноте; он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, дущист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря».— Напрасно Белинский не прибавил еще, что стих Пушкина красен, как вареный рак, сладок, как сотовый мед, питателен, как гороховый кисель, вкусен, как жареная тетерька, упоителен, как рижский бальзам, и едок, как сарептская горчица. Если можно сравнивать стих с волною, со смолою, с молниею, с кристаллом, с весною, с ударом меча, то я не вижу резона, почему не сравнить его с вареным раком, с гороховым киселем, с сарептскою горчицею и вообще со всеми предметами, существующими в земле, на земле и под землею.— Простые смертные смотрят, конечно, с немым изумлением на ту эстетическую оргию, которой предается Белинский; но это изумление в порядке вещей; простые смертные не могут и не должны понимать тех высших красот, которыми упиваются посвященные. Это существование высших красот, доступных только избранным натурам, подтверждает своим свидетельством другой посвященный,— Гоголь, которого слова с особенным удовольствием, сочувствием и уважением цитирует Белинский в конце той же пятой — статьи о Пушкине.
«Чтобы быть доступну понимать их,— рассуждает Гоголь,— нужно иметь слишком тонкое обоняние, нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара».
Можно было бы нахохотаться, вдоволь, глядя на Гоголя и Белинского, с умилением, и с гастрономическим благоговением беседующих между собою о необходимости слишком тонкого обоняния, о смолистой тягучести пушкинского стиха и о непостижимых достоинствах птички не более наперстка. Но не до смеха будет тому читателю, который подумает, что не с жиру, а с горя беседовали эти люди о птичках величиною с наперсток. Поневоле приходилось рассуждать о подобных птичках, когда о более крупной дичи рассуждать было неудобно. От недостатка упражнения в тогдашних людях слабела способность и, наконец, замирало даже желание подвергать анализу такие явления жизни, которыми нельзя услаждаться, как жареною птичкою. Удивительно не то, что Белинский поет нелепый дифирамб во славу жареным птичкам, соединяющим в себе тягучесть смолы с благовонием весны и с яркостью молнии, а то, что он еще умеет находить область эстетики тесною и душною для мыслящего критика. Удивительно то, что Белинский, в самом разгаре своего эстетического восторга, не упустил из виду ни одного из существенных недостатков пушкинской поэзии. Вслед за тою неистовою тирадою, которая приписывает пушкинскому стиху свойства смолы, весны и молнии, является следующее очень верное, хотя, конечно, чересчур любовное определение характеристических особенностей нашего поэта. «В Пушкине, напротив, прежде всего увидите вы художника, вооруженного всеми чарами поэзии, призванного для искусства, как для искусства, исполненного любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящего все и потому терпимого ко всему. Отсюда все достоинства, все недостатки его поэзии; и если вы будете рассматривать его с этой точки, то с удвоенной полнотой насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, как необходимое следствие, как оборотную сторону его же достоинств».
В этих кротких и ласковых словах заключается самое полное и беспощадное осуждение не только одной пушкинской поэзии, но и вообще всякого чистого искусства. Кто любит все, тот не любит ровно ничего; кто любит одинаково сильно истца и ответчика, страдальца и обидчика, истину и предрассудок, тупого обскуранта и гениального мыслителя, тот, очевидно, не может желать, чтобы истец выиграл свой процесс, чтобы страдалец поборол обидчика, чтобы истина истребила предрассудок и чтобы гениальный мыслитель одержал решительную победу над тупыми обскурантами. Всеобъемлющая, тепловатая любовь, по совершенно справедливому замечанию Белинского, непременно ведет за собою всестороннюю терпимость, возможную только при совершенно бессмысленном, безучастном и бесстрастном взгляде на жизнь. Кто во всех явлениях жизни ищет только эстетически-прекрасного, тот, очевидно, должен смотреть на людей так, как ребенок смотрит на пестрые камушки и цветные стеклышки калейдоскопа. При таких отношениях к жизни не может быть ни любви к людям, ни верного и глубокого понимания их стремлений и страданий. Это ребяческое равнодушие к людям, это тупое непонимание жизни составляют действительно, как замечаем Белинский, необходимое следствие или оборотную сторону тех достоинств, которыми восхищаются эстетики в произведениях чистого художника. Если бы не было этой оборотной стороны, тогда чистый художник превратился бы в страстного бойца за ту или за другую идею, и тогда он уже потерял бы способность угощать эстетических гастрономов птичками величиною с наперсток. Но так как эта оборотная сторона достойна самого полного и неумолимого презрения и так как она составляет, по словам самого же Белинского, необходимую принадлежность самой медали, то не трудно сообразить, что и вся медаль совсем никуда не годится.
Несмотря на всю ласковость своих отношений к Пушкину, Белинский сам глубоко чувствует неудовлетворительность этой медали. Во-первых, я попрошу читателей обратить внимание на слово напротив, подчеркнутое мною в моей последней выписке из Белинского. Это слово поставлено Белинским потому, что он противополагает Пушкина Шекспиру, Байрону, Гёте и Шиллеру.— Шекспир, по словам Белинского, «глубокий сердцеведец, мирообъемлющий созерцатель». В Байроне Белинского поражает «ужасом удивления колоссальная личность поэта, титаническая смелость и гордость его чувств и мыслей». Гёте — «поэтически-созерцательный мыслитель, могучий царь и властелин внутреннего мира души человека». Перед Шиллером Белинский преклоняется «с любовью и благоговением», как «перед трибуном человечества, провозвестником гуманности, страстным поклонником всего высокого и нравственно-прекрасного».
Набросав таким образом эти четыре характеристики, Белинский вводит в это избранное общество гениальных поэтов нашего маленького Пушкина. Вводя его, он произносит ту рекомендательную фразу, которую я выписал выше. Благосклонность этой рекомендательной фразы выставляет особенно рельефно то печально-комическое обстоятельство, что нашему маленькому Пушкину решительно нечего делать в той знатной компании, в которую он попал совершенно некстати, по милости своего лукавого доброжелателя, Белинского. Наш маленький и миленький Пушкин, неспособен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют. В самом деде, что такое Пушкин и что такое те люди, с которыми сводит его Белинский? Один из этих людей — глубокий сердцеведец, другой — смелый и гордый титан, третий — царь и властелин внутреннего мира, четвертый — трибун человечества. Как видите, народ все чиновный! Всё тузы литературной колоды и у каждого туза своя собственная физиономия, Ну, а Пушкин-то что же такое?— Пушкин — художник?! Вот тебе раз!— Это что же за рекомендация? А Шекспир, небось, не художник? Байрон — не художник? Гёте — не художник? Шиллер — не художник?— Кажется, все они художники, но, кроме того, каждый из них оказывается еще крупным человеком с ясно-обозначенным характером и с совершенно своеобразным складом ума. Художественная виртуозность для каждого из них является только средством выразить в общепонятных и привлекательных формах то, что составляет внутреннее содержание, внутренний смысл, жизнь и силу их энергических и резко-очерченных личностей. Художественная виртуозность для них то же самое, что приличное платье для каждого из нас. Когда вы отправляетесь в общество, вы, конечно, заботитесь о том, чтобы ваше платье было опрятно и не изорвано; но, разумеется, вы отправляетесь в общество не за тем, чтобы показать людям ваше новое платье. Бывают, конечно, и такие господа, которые выезжают в свет именно с этою последнею целью, но таких господ умные люди не уважают и клеймят названием праздношатающихся шалопаев или ходячих вешалок или говорящих манекенов (mannequin). Если бы, собирая сведения о незнакомом вам человеке, вы услышали бы о нем от самых близких его друзей только то, что он отменно-хорошо одевается, то вы, без сомнения, подумали бы о нем, что он совершенно пустой, ничтожный и ограниченный человек, потому что в противном случае его друзья обратили бы внимание не на покрой его платья, а на особенности его ума и характера. Представьте же себе, что отзыв Белинского о Пушкине совершенно равносилен этому отзыву близких друзей о господине, одетом по последней моде. Пушкин — художник и больше ничего! Это значит, что Пушкин пользуется своею художественною виртуозностью, как средством посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия. Этот неотразимый вывод особенно настоятельно напрашивается на внимание читателя именно потому, что Белинский свел своего protege Пушкина с такими людьми, которых значение состоит совсем не в безукоризненном покрое платья.
Было бы очень неосновательно думать, что это сопоставление Пушкина с тузами поэзии было сделано нечаянно или что Белинский сам не предвидев тех опасных последствий, которые может повести за собою для литературной славы Пушкина это коварное сопоставление. Белинский на каждой странице своих статей наносит Пушкину жестокие удары, которые проходили и до сих пор проходят незамеченными только потому, что они облечены в чрезвычайно почтительную форму и сопровождаются самыми глубокими реверансами. «И так как его назначение,— говорит Белинский о Пушкине,— было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию, как искусство, так чтоб русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания, не боясь перестать быть поэзией и перейти в рифмованную прозу,— то естественно, что Пушкин должен был явиться исключительно художником».— Соскоблите с этой фразы шелуху гегелизма и переведите ее с высокого эстетического языка на общепонятный русский язык, и знаете ли, что вы получите?— Получите вы то, что я сказал о Пушкине в третьей части «Реалистов», а именно то, что Пушкин просто великий стилист и что усовершенствование русского стиха составляет его единственную заслугу перед лицом русского общества и русской литературы, если только это усовершенствование, действительно, можно назвать заслугою. Шелухою гегелизма я называю идею органического развития, которая засела очень глубоко в голове Белинского и которую он, всеми правдами и неправдами, старается провести даже там, где она совершенно неприложима. Увлекаясь этою идеею, он видит что-то органическое и необходимое во всех стихотворных шалостях Батюшкова, Жуковского и Пушкина. Он полагает, что каждый из этих господ имел и исполнил свое особенное назначение, свою специальную миссию в истории развития русской поэзии. В настоящее время такие добродушные мечтания, разумеется, кажутся нам странными и смешными. Мы знаем очень хорошо, что во времена Батюшкова, Жуковского и Пушкина русская мысль спала крепким сном, а русская поэзия представляла собою даже не тепличное растение, а просто картонную декорацию. Мы знаем также, что все эти господа, которым Белинский навязывает миссии и назначения, были просто quelques gentilshommes, которые, по выражению госпожи Сталь, se sont occupes’de litterature en Russie, точно так, как они могли s’occuper en Russie разведением борзых собак или возделыванием тюльпанов или плеванием в потолок. Появление комедии «Горе от ума» нисколько не опровергает моей мысли о совершенной мертвенности и искусственности тогдашней поэзии. Напротив, оно даже подтверждает мою мысль. «Горе от ума» стоит совершенно одиноко. Оно ничем не связано ни с тем, что было до него, ни с тем, что существовало рядом с ним, ни с тем, что было после него. До него был Озеров, после него был Кукольник; в одно время с ним блистали стихотворные шалости Жуковского и Пушкина.— Итак, Грибоедов оказывается преемником Озерова, предшественником Кукольника и сподвижником романтика Жуковского. Какое превосходное органическое развитие! Как много заимствовал Грибоедов у Озерова и как много он дал Кукольнику! И как легко догадаться, что Грибоедов и Жуковский были современниками!
Итак, шелуху гегелизма надо соскабливать с сочинений Белинского. Толковать о значении Пушкина — напрасный труд. Та фраза, что Пушкин завоевал русской земле поэзию, или не имеет никакого осязательного смысла или заключает в себе тот очень скромный смысл, что Пушкин усовершенствовал русский стих и осмелился заговорить в стихах о пивной кружке и о бобровом воротнике, между тем как его предшественники говорили только о фиалах и о хламидах. Из этого следует, очевидно, то заключение, что Пушкин может иметь теперь только историческое значение, а для тех людей, которым некогда и не за чем заниматься историей литературы, не имеет даже совсем никакого значения.
Белинский очень, ясно понимал даже и это сокрушительное обстоятельство. «Как бы то ни было,— говорит он,— но по своему воззрению Пушкин принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта. Дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизнью всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только, как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего».
Если жизнью всякой истинной поэзии сделалось страстное мышление, полное вражды и любви, то, очевидно, поэзия Пушкина — уже не поэзия, а только археологический образчик того, что считалось поэзиею в старые годы. Место Пушкина — не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с заржавленными латами и с изломанными аркебузами. Белинский осмеливается высказать даже и эту печальную истину. «Каждый умный человек,— говорит он,— вправе требовать, чтоб поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени или, по крайней мере, исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов.— Кто поёт про себя и для себя, презирая толпу, тот рискует быть единственным читателем своих произведений». Ага! какой пассаж! И все это с глубокими реверансами и с неизменною ласковостью голоса! Видите, какой пакостный озорник этот Белинский и какие он произносит дерзкие и зловещие пророчества! Если Белинский мог говорить такие вещи в сороковых годах, то меня, человека, пишущего в шестидесятых годах, можно упрекать не в том, что я говорю неслыханные дерзости, а разве только в том, что я надоедаю читателям повторением слишком старых истин.
IV.
Внутренние противоречия, которыми переполнены статьи Белинского, не должны возбуждать в читателе ни изумления ни негодования. Читатель должен постоянно помнить, что Белинский стоит на рубеже двух противоположных миросозерцании, и в его могучей личности совершается мучительный переход к тому строю понятий, с которым даже до настоящей минуты еще не сумели освоиться и помириться солидные люди нашей литературы. Во время такого перехода, колебания, ошибки и внутренние противоречия оказываются совершенно неизбежными даже для самых сильных и здоровых умов. «Есть,— говорит Белинский,— всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства».— В конце своего труда о Пушкине Белинский повторяет ту же мысль в следующих словах: «Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство».
Сопоставляя эти изречения Белинского с теми суждениями того же критика, которые были приведены и разобраны мною в конце предыдущей главы, мы получаем тот неожиданный и изумительный результат, что «для молодых людей обоего пола особенно полезно» чтение такого поэта, которого произведения для нашего времени уже перестали быть поэзиею; далее, что поэт, который «рискует быть единственным читателем своих произведений», «будет в России поэтом классическим», и наконец, что «можно превосходным образом воспитать в себе человека», читая творения такого поэта, который систематически уклоняется от ответа «на тревожные, болезненные вопросы настоящего» и который «поет про себя и для себя, презирая толпу».— Если бы мы приняли слова Белинского о благотворном влиянии Пушкина на молодых людей обоего пола за выражение прочно-установившегося убеждения, то мы принуждены были бы назвать Белинского закоснелым поборником квиетизма и индифферентизма, тупым обожателем застоя и рутины, и систематическим развратителем молодого поколения. Действительно, для тех людей, в которых произведения Пушкина не возбуждают истерической зевоты,— эти произведения оказываются вернейшим средством притупить здоровый ум и усыпить человеческое чувство. Кому Пушкин безвреден, тот не станет его читать; а кому он понравится, того он испортит в умственном и нравственном отношении. Испортит он не тем, что даст ложное направление силам молодого ума, а тем, что не даст им совсем никакого направления, тем, что приучит «молодых людей обоего пола» обходиться в жизни без всяких убеждений и относиться с воробьиным легкомыслием к самым серьезным вопросам, поглощающим все силы лучших деятелей данной эпохи. Воспитывать молодых людей на Пушкине — значит готовить из них трутней или тех сибаритов, которые, по словам Гоголя, пресытившись грубыми и тяжелыми яствами, услаждаются жареными птичками величиною с наперсток.
Чтобы доказать верность моей мысли на отдельных примерах, я приступаю теперь к анализу Пушкинской лирики. Из всей массы лирических стихотворений Пушкина; занимающих в издании г. Анненкова до шестисот страниц, я буду выбирать только те, которые считаются самыми лучшими, которые заключают в себе поползновение к мысли и которые Белинский рекомендует с особенным жаром молодым людям обоего пола.— С чего бы начать? Возьмем, например, стихотворение «19 октября», написанное в 1825 г. и пользующееся полнейшим сочувствием Белинского.— 19 октября, как известно,— день открытия лицея, в котором воспитывался Пушкин. В 1825 году Пушкину было 26 лет, и он пользовался уже громкою известностью.— Итак, молодой и блестящий поэт, полный жизни и энергии, обращается к своим бывшим лицейским товарищам и беседует с ними шестистопным ямбом на пяти больших страницах. Как много чувства и мысли должно заключать в себе это стихотворение! Подумайте в самом деле: человек в полном цвете лет, уже познакомившийся с волнениями и с радостями, жизни, уже проверивший житейским опытом юношеские мечты, уже отбросивший прочь воздушные замки, но сохранивший юношескую смелость мысли и свежесть чувства,— такой человек, говорю я, вступает в разговор с теми людьми, которые знали его, когда он был мальчиком, которые вместе с ним росли и развивались, вместе с ним мечтали о жизни, чертили роскошные планы и строили воздушные замки. В откровенном разговоре с друзьями своего детства поэт развернет, конечно, всю свою житейскую философию. Мы узнаем от него, как он смотрит на свое прошедшее, чего он требует от будущего, какое место отводит он своей собственной деятельности в общей толкотне и суете житейских явлений. Вообще мы вправе ожидать от поэта серьезного слова: те люди, к которым он обращается, знают его насквозь, следовательно, он может и должен быть с ними совершенно откровенен; он сам дорожит дружбою и уважением этих людей, следовательно, он по всей вероятности чувствует потребность высказаться перед ними так, чтобы они получили полное и верное понятие об его сложившейся и возмужалой личности. Тут нет места легкомыслию и фразерству. Если Пушкин вообще способен смотреть серьезно и разумно на людей и на — жизнь, то эта способность должна непременно проявиться в стихотворении: «19 октября 1825 года».
В первых сорока восьми строках Пушкин говорит, что он проводит этот день один в своей «пустынной келье», потом вспоминает о товарище, умершем в Италии, и о другом товарище, служащем во флоте. Идей в этих сорока восьми строках нет; есть только фактические подробности и неопределенные выражения дружелюбия и чувствительности. Вслед затем он говорит:
Он, как душа, неразделим и вечен.
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных Муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,—
Всё те же мы: нам целый мир — чужбина,
Отечество нам — Царское Село.
Случалось ли вам, читатель мой, бывать на официальных обедах, которые даются чиновниками в честь благодетельного начальника? На таких обедах после жаркого солиднейший из чиновников обращается обыкновенно к герою торжества с неистово-хвалебною и безукоризненно-официальною речью, которая также обыкновенно заставляет скромного героя уронить в полный бокал шампанского такую же безукоризненно-официальную слезу умиления. Эта неизбежная речь приписывает присутствующему герою такие изумительные подвиги усердия и человеколюбия, которых он никогда не совершал и даже, по своему чину и положению, никогда не мог совершить. Я должен признаться, что дифирамб Пушкина в честь прекрасного союза, который неразделим и вечен, как душа, очень сильно напоминает мне тон безукоризненно-официальных речей, произносимых после жаркого во славу благодетельного начальства. Весь куплет состоит из гипербол. Как вам нравится, например, тот возглас, что им целый мир — чужбина; и что их отечество находится исключительно в Царском Селе? Если это не правда, то какая плоскость! Надо быть совершенно исковерканным человеком, двойником Онегина, чтобы говорить приторные и заведомо-ложные комплименты школьным товарищам и друзьям детства. Если даже тут нет места искренности, то где же она, укроется и какие тайники человеческого чувства останутся застрахованными от наплыва безукоризненной официальности?— А если Пушкин говорит правду, то какая узкость ума и какая дряблость чувства? Человек во всем мире любит только то училище, в котором он воспитывался. Человек в полном цвете лет отворачивается от будущего и утешается только воспоминаниями детства. Хорош мужчина, хорош боец, хорош общественный деятель! А если он не мужчина, не боец и не общественный деятель, то как же он может быть замечательным поэтом? Итак, одно из двух: или это плоский и лживый комплимент или расписка в собственном ничтожестве. Как то, так и другое одинаково недостойно умного и энергического человека.
Один из последующих куплетов показывает нам ясно, какую цену мы должны придавать гиперболам Пушкина. Вот его подлинные слова:
Хвала тебе! Фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам розный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Поняли вы, за что Пушкин воздает хвалу своему товарищу? За то, что этот товарищ не отвернулся от него при нечаянной встрече; за то, что он дружески поздоровался с ним. Значит, этот поступок был для Пушкина неожиданностью, если он вменяет его в заслугу своему бывшему товарищу. Значит, Пушкин ожидал, что один из членов прекрасного союза, неразделимого и вечного, как душа, при свидании с другим членам того же прекрасного и душеподобного союза может посмотреть на этого другого члена с высоты своего величия и протянуть ему для пожатия кончики двух пальцев или даже совсем ничего не протянуть и при этом спросить сквозь зубы: кого я имею удовольствие видеть?
Если б я не был твердо убежден в чистоте пушкинского сердца и в совершенной неспособности его ума к лукавым сомнениям, то я подумал бы, что, сравнивая прекрасный союз с душою, Пушкин этим лукавым сравнением старается поколебать в своих читателях веру в бессмертие души. Всего восемь лет прошло с тех пор, как Пушкин расстался с лицеем, и он уже приходит в восторг от того, что блеск холодной фортуны не изменил свободной души его товарища. Плохо же он верит в прочность того союза, который он, для пущей сладости, называет вечным и неразделимым, как душа. И какой же это такой особенный блеск фортуны мог озарить его товарища в течение восьми лет? И могли ли они в это время действительно разойтись на очень далекое расстояние?— Ничуть не бывало. Пушкин никогда не был ни мучеником ни даже нищим. Что же касается до счастливца с первых дней, то, очевидно, как бы ни был он счастлив, он в восемь лет не мог сделаться ни фельдмаршалом, ни министром, ни чрезвычайным послом, ни генерал-губернатором. Значит, встретившись на проселочной дороге, Пушкин и счастливец вовсе не стояли на двух крайних ступенях общественной лестницы. Вся разница между ними могла состоять только в том, что один был двумя или тремя чинами старше другого. Союз вечный и неразделимый, как душа, оказался столь крепким, что не лопнул даже от этого громадного различия; коллежский советник великодушно обнял титулярного, и Пушкин восклицает с восторгом: хвала тебе, ваше высокоблагородие!
Затем Пушкин обращается к другому, не столь чиновному члену прекрасного союза. «С младенчества, говорит он ему,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две Музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.
Служенье Муз не терпит суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность нам советует лукаво
И шумные нас радуют мечты…
Опомнимся, но поздно! И уныло
Глядим назад, следов не видя там,
Скажи, Вильгельм[1], не то ль и с нами было,
Мой брат родной по Музе, по судьбам?
Пора, пора! Душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Если всю эту рифмованную болтовню переложить на простой и ясный прозаический язык, то получится следующий, весьма тощий и бледный «смысл: мы с тобою оба пописывали стишки; я отдавал свои стихи в печать, а ты своих не отдавал: теперь и я перестану печатать мои стихотворения.— Почему Пушкину пришла в голову эта последняя фантазия и почему он оставил ее без исполнения — этого недоумевающий читатель никогда не узнает. Что значат громкие фразы о служении Муз, которое не терпит суеты, и о прекрасном, которое должно быть величаво,— это также остается неизвестным. Вернее всего то, что эти фразы ровно ничего не значат и изображают собою стилистические упражнения и риторические амплификации. Какие душевные муки принял на себя Пушкин из любви к миру и чем провинился перед Пушкиным неблагодарный мир — об этом также молчит история. Надо полагать, что под благозвучным именем душевных мук здесь подразумевается многотрудное искание рифмы. Что же касается до сокрытия жизни под сень уединения, то этою меланхолическою фразою, очевидно, пленился и вдохновился Иван Александрович Хлестаков, приглашавший прелестную городничиху удалиться вместе с ним под сень струй.
Перехожу к последним двум куплетам, которые особенно понравились Белинскому.— «Пируйте же, говорит Пушкин.
пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет,
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет,
Судьба глядит (?), мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Выписав эти строки, Белинский рассуждает о них или, вернее, восторгается ими следующим образом: «Какая глубокая и вместе с тем светлая скорбь! Каждая мысль сама по себе так исполнена поэзии, независимо от формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всяких метафор! (Гм! А «судьба глядит»? Это — не метафора?) Этот переживший всех друзей своих друг, докучный, лишний и чужой гость среди новых поколений, дрожащей рукой закрывающий глаза при воспоминании о своих друзьях — это не просто поэтические стихи, это — поэтическая картина». А по-моему, эта поэтическая картина составляет именно самое крупное пятно во всем стихотворении, которое, по правде сказать, есть не что иное, как сплошной ряд более или менее крупных пятен. Эта поэтическая картина показывает нам особенно наглядно жалкую неспособность автора возвыситься до разумного понимания жизни. Автор думает, по-видимому, что новые поколения будут уже не людьми, а орангутангами, и что вследствие этого «несчастный друг» непременно должен оказаться среди этих новых поколений докучным, лишним и чужим гостем.
Автору было 26 лет, когда он писал свое стихотворение; рисуя поэтическую картину несчастного друга, закрывающего глаза дрожащею рукою, он захватывал вперед лет на сорок. И между тем, хватая так далеко вперед, он не умеет указать несчастному другу никакого предохранительного средства против того печального положения, которое он ему пророчит в далеком будущем. Видя впереди разлад с новыми поколениями и холодное одиночество, Пушкин даже не задает себе вопроса о том, есть ли возможность избегнуть этого печального разлада и избавиться от этого тягостного одиночества. Он без малейшего размышления принимает разлад и одиночество за роковую необходимость. Конечно, тем людям, для которых «целый мир — чужбина и отечество — Царское Село», действительно на старости лет придется непременно закрывать глаза дрожащею рукою. Но им за это надо будет пенять на самих себя, а никак не на новые поколения. Вольно же было этим людям смотреть на весь мир, как на чужбину, и сосредоточивать в самом тесном и ограниченном кругу все свои симпатии и стремления. Если бы они с ранней молодости умели полюбить всеми силами своего существа те идеи, в которых заключается весь смысл и весь интерес текшего исторического периода; если бы они в зрелом возрасте умели с наслаждением прилагать все свои способности к добыванию теоретических истин или к проведению добытых истин в действительную жизнь; если бы они состарелись и поседели в этих общеполезных трудах,— тогда целый мир был бы их отечеством, тогда лицейская годовщина не имела бы для них мистически-торжественного значения, тогда преждевременная смерть двух-трех товарищей не приводила бы их в отчаяние и тогда новые поколения были бы для них не дикими орангутангами, а молодыми, нежными и почтительными друзьями, среди которых старые и утомленные работники с законным удовольствием отдыхали бы от своих честных и полезных трудов. (В силу своих демократических взглядов Писарев не предлагает «тем людям» задуматься о душе и прожить жизнь по-христиански, чтобы на старости лет устремлять свои взоры не в прошлое, а в Вечное. Поможем ему. – Прим. ред.) Такие старики, как Ньютон, Вольтер, Франклин, Александр Гумбольдт, никогда не могли чувствовать себя докучными, лишними и чужими гостями. В наше время также много таких стариков, которых жизнь драгоценна для всего образованного мира и которые, по своей кипучей энергии и по своей страстной любви ко всему живому, могут смело потягаться с любым юношей. И эту светлую и радостную старость может приготовить себе каждый человек, хотя бы он был одарен очень обыкновенными умственными способностями. Для этого ему надо только постоянно и добросовестно по мере сил своих, жить и работать в кругу тех идей, которыми увлечены лучшие люди данного общества. Для этого ему надо только делать как раз противное тому, что советует Пушкин, желающий устранить суету из служения Муз, отказаться от душевных мук и скрыть жизнь под сень уединения. Благоразумные советы Пушкина, разумеется, превратят живого и сильного человека в ходячую окаменелость и уже с 26-летнего возраста воспитают в здородом мужчине вялого, плаксивого и брюзгливого старика, который будет закрывать себе глаза дрожащею рукою отчасти для того, чтобы проливать бесполезные и бессмысленные слезы над невозвратимым прошедшим, а отчасти, и даже преимущественно для того, чтобы не видеть отвратительных молодых орангутангов. «Но,— продолжает Белинский,— не в духе Пушкина остановиться на скорбном чувстве: словно торжественным музыкальным аккордом оканчивается пиеса этими полными бодрого чувства стихами:
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.
Пушкин,— говорит Белинский,— не дает судьбе победы над собою; он вырывает у ней хоть часть отнятой у него отрады».
Переведите торжественный музыкальный аккорд на общеупотребительный человеческий язык, и вы получите следующий, очень удобоисполнимый совет: «Несчастный друг! Когда ты останешься один, то постарайся нализаться за обедом до положения риз, а после обеда завались спать вплоть до следующего утра».— Если несчастный друг твердо запомнит совет великого художника, то можно сказать наверное, что, усердно прилагая этот совет к делу, несчастный друг приобретет себе багровый нос, который и будет изображать собою часть отрады, вырванную им у коварной судьбы. Если бы такие полезные советы были предложены топорною прозою, Белинский, без сомнения, назвал бы такие советы вопиющею пошлостью. Но эти советы втиснуты в рифмованные строчки, и Белинский называет их «торжественным музыкальным аккордом». Белинский в этих строчках видит даже «бодрое чувство». Я, напротив того, вижу в них, во-первых, умственную трусость, а во-вторых, всю напущенность фальшивого и неискреннего чувства. Умственная трусость состоит в том, что Пушкин сам не смеет смотреть прямо и спокойно на ту печальную картину, которую он нарисовал. Поставив своего несчастного друга в очень скверное положение, Пушкин сам не умеет найти выхода из этого положения и в то же время не осмеливается сознаться перед собою и перед читателями в том, что он считает это положение безвыходным. Тогда он наскоро отыскивает ложный выход и выдает его за истинный, хотя сам он, при всей своей колоссальной неразвитости, все-таки не может думать, что рюмка водки или стакан шампанского действительно составляют полезное лекарство против глубокого огорчения.
Напущенность и неискренность чувства обнаруживаются именно в том обстоятельстве, что Пушкин решается поднести несчастному другу рюмку водки. Подумайте в самом деле: разве вы осмелитесь поступить таким образом с тем человеком, которого вы уважаете, которого огорчение вы вполне понимаете и сами глубоко прочувствовали? Не покажется ли вам в таком случае рюмка водки нелепою и дерзкою профанациею того чувства и той личности, с которыми вы имеете дело? Но для Пушкина несчастный друг есть лицо чисто фантастическое, придуманное только для того, чтобы закончить растянутую пиесу эффектною картиною. Поэтому Пушкин на самом деле нисколько не сочувствует фантастическому горю этого фантастического лица. Поэтому Пушкин, обходится с несчастным другом самым нахальным образом. Ничего, мол, старый ч…; хлебнешь малу толику — и всю твою печаль как рукой снимет. С таким циническим неуважением, с таким возмутительным легкомыслием, конечно, никогда не отнесутся к огорчению бедного, одинокого старика те молодые и свирепые орангутанги, от которых старик будет закрываться дрожащею рукою.
Кстати об орангутангах. Из разобранных стихов Пушкина читатели видят ясно, что мысль о необходимом разладе между различными поколениями существовала в нашем обществе задолго до появления реальной критики и базаровского типа. Суровая и злобная реальная критика не только не старается усилить этого разлада, а напротив того, указывает единственное верное средство против этой общественной болезни, которую кроткий и любвеобильный Пушкин советует заливать водкою и шампанским. Реальная критика доказывает, что любовь к идее может образовать неразрывную связь между различными поколениями. Пушкин, напротив того, не имеет никакого понятия ни об идее ни обвязывающей любви. Читатель видит таким образом, что весь теперешний разлад заготовлен нашим прошедшим и что нам приходится теперь сводить неприятные и убыточные счеты с тем, что выросло и укрепилось задолго до нашего появления на свет, во время обаятельного господства чистого искусства, гегелевской философии и тех исторических условий, которые обнаруживают всегда и везде трогательную солидарность с этими милыми явлениями умственной жизни.
V.
Пушкин неоднократно выражал свой взгляд на призвание поэта. Поэт разговаривает с книгопродавцем, потом с чернью, потом с другом и во всех этих разговорах выказывает много самых диковинных штук, имеющих претензию быть мыслями. Кроме того, Пушкин не раз обращается к поэту со стороны и усматривает в нем то орла, то эхо, то жреца. Видно, что Пушкину было очень приятно позировать перед зеркалом и примеривать на себе разные риторические наряды. Так как эти беседы с поэтом и о поэте, то есть с собою и о себе, составляют все-таки самую глубокомысленную часть Пушкинской лирики, то я разберу эти беседы одну за другою в хронологическом порядке. В стихотворениях 1824 г. находится «Разговор книгопродавца с поэтом». Книгопродавцу желательно купить у поэта его произведение, а поэту по всей вероятности желательно взять за это произведение как можно дороже. Желания обеих заинтересованных сторон одинаково естественны и законны, и поэту, повидимому, просто следовало бы поторговаться с книгопродавцем так, как торгуются вообще всякие поэты, прозаики и простые смертные. Но поэту, выведенному Пушкиным и составляющему по всей вероятности идеал Пушкина, хочется сначала поломаться, и поэтому он душит несчастного книгопродавца длиннейшими монологами, не имеющими никакого отношения ни к книжной торговле ни к цене того товара, который поэт держит в своем портфеле. Книгопродавец, разумеется, слушает болтливого «любимца Муз и Граций» с почтительным вниманием и отвечает на его монологи приличными комплиментами, потому что предвидит от его лиры много добра или, проще, надеется зашибить на его новой поэме порядочный барыш. Конечно, поэт прежде всего старается заявить, что ему тяжело и больно продавать свое вдохновение. Когда книгопродавец говорит ему: «стишки любимца Муз и Граций мы вам рублями заменим», тогда поэт вздыхает и притом столь глубоко, что книгопродавец из вежливости принужден изъявить свое участие и осведомиться о причине такого вздоха. Поэту только того и нужно было. Придравшись к вопросу Книгопродавца, он немедленно приступает к изготовлению монологов:
Я был далеко,
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы
Я видел вновь приюты скал…
ну, и так далее; начинаются картины природы, потом оказывается, что какой-то демон обладал его играми и шептал ему дивные звуки, что его голова была полна тяжким пламенным недугом, что его соперником в гармонии был шум лесов и буйный вихрь, и живой напев иволги; что он не унижал постыдным торгом сладостных даров музы и не хотел делиться с толпою пламенным восторгом.
Видя, что поэт напирает на какую-то постыдность торга, и предчувствуя, с содроганием сердца, в этом возвышенном разговоре коварнейший маневр, направленный к тому, чтобы набить цену, которая, очевидно, должна будет покрыть собою не только труд поэта, но еще и позор торговой сделки,— несчастный книгопродавец, не кстати осведомившийся о причине вздоха, старается показать своему собеседнику лицевую сторону медали и заговаривает о славе, которая, по его мнению, заменила поэту «мечтанья тайного отрады». Но поэт твердо решился ободрать книгопродавца, как липку, и поэтому относится к славе очень сурово. «Что слава? спрашивает он: шопот ли чтеца? Гоненье ль низкого невежды? Иль восхищение глупца?»
Тут поэт, по-видимому, сам признается в том, что только глупец может восхищаться его произведениями. Не будем с ним спорить. Книгопродавец, из чувства самосохранения, никак не хочет, однако, согласиться с тем, что слава — звук пустой. Он напоминает поэту, что «сердце женщин славы просит: для них пишите».
Поэт продолжает жеманиться и кривляться, уверяет, что ему и до женщин нет никакого дела, тем более, что для него это не диковинка. Тут он никак не может утерпеть, чтобы не намекнуть книгопродавцу о своих победах, и говорит:
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои.
Но мне, дескать, это все нипочем.
Нечисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак Бога, входновенье
Для них и чуждо, и смешно.
Значит, не стоит с ними и связываться. Но книгопродавец является галантерейным защитником прекрасного пола, у которого оказалось такое пакостное воображение, и спрашивает:
Ни вдохновенья, ни страстей
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Поэт отвечает весьма пространно и восторженно, что такая отменно-хорошая барыня, без нечистого воображения, действительно существует, но что, к сожалению, она его знать не хочет. Книгопродавцу в это время уже до смерти надоело выслушивать и почтительно одобрять бестолковые монологи. Поэтому он торопится прийти к практическому заключению и говорит:
И Муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?
Поэт отвечает: «Свободу!» Это неожиданное решение может показаться читателю чересчур храбрым и пожалуй даже неисполнимым. Но читатель должен помнить, что ведь эта пушкинская свобода — свобода самая смирная и неприхотливая, и даже незаметная в том смысле, что ее можно принять за нечто вовсе не похожее на свободу. Пушкин во многих своих стихотворениях прославляет свободу, но это обстоятельство нисколько не должно вредить его репутации в глазах солидных и добродетельных людей. Книгопродавец очень хорошо понимает, о какой свободе тут идет речь, и вследствие этого очень основательно замечает поэту, что
В сей век железный
Без денег и свободы нет.
Вы, дескать, сначала извольте мне продать вашу поэмочку, а потом ложитесь на диван, задерите ноги кверху и плюйте в потолок, то-есть, наслаждайтесь вашею свободою до тех пор, пока не истратите всех полученных денег. Поэту, повидимому, тоже надоело кривляться и пустословить. Он отвечает книгопродавцу прозой: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся».— Тем и оканчивается вся пиеса.
Не знаю, стоит ли эта пиеса выше или ниже критики, но знаю наверное, что она стоит вне критики, потому что в ней нет решительно ни одной мысли,— ни такой, против которой можно было бы спорить,— ни такой, с которою можно было бы согласиться. Во всем разговоре нет ничего, кроме непроходимого пустословия, и все это пустословие выставляет поэта в самом мизерном виде. Он оказывается похожим на старую кокетку, которой до смерти хочется согрешить, но которая при этом непременно желает, чтобы ее вовлекли в грех почти насильно. Если Пушкин сам смотрел на своего поэта с уважением и если он хотел внушить это чувство своим читателям, то мне остается только подивиться как проницательности Пушкина, так и его искусству. Если же Пушкин хотел действительно написать сатиру на поэтов, то можно заметить, что эта сатира длинна, скучна и страдает полным отсутствием остроумия.
В 1827 г. Пушкин написал стихотворение: «Поэт». Вот оно:
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы;
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы… _
Хотя Белинский и превозносит Пушкина за то, что Пушкин заменил фиалы пивными кружками, однако нельзя не заметить, что наш поэт до самого конца своей жизни не отделался вполне от старого и совершенно бессмысленного мифологического языка. Этот язык невыносим для тех писателей, которые чувствуют в себе потребность высказывать обществу какие-нибудь определенные и ясно-сознанные мысли. Но для тех писателей, которые, подобно пушкинскому поэту, полны не мыслей, а только звуков и смятенья, мифологический язык составляет незаменимое сокровище, потому что разные Аполлоны, Музы, Грации, Киприды, Парки дают таким писаниям, кроме богатого запаса подставных рифм, полную возможность не высказывать в своих стихах ровно ничего, притворяясь в то же время, будто они высказывают чрезвычайно много. В стихотворении «Поэт» мифологический язык оказал Пушкину драгоценную услугу. Попробуйте выгнать из этого стихотворения Аполлона, и все стихотворение окажется несуществующим, потому что тогда немедленно откроется вся его бессмысленность. В этом стихотворении поэт приведен в зависимость от какой-то верховной, таинственной власти, не имеющей никаких необходимых отношений к интересам и волнениям живых людей. Аполлон призывает поэта к священной жертве, божественный глагол касается до чуткого слуха — это, конечно, только поэтические образы или, вернее, аллегорические обороты речи, но именно только эти аллегорические обороты могут до некоторой степени заслонить, как от самого автора, так и от читателя, совершенную несостоятельность основного мотива. Называя Аполлоном ту силу, которая побуждает поэта творить, Пушкин, одним этим риторическим маневром, приписывает этой силе совершенно самостоятельное существование. По теории Пушкина поэт творит не тогда, когда он взволнован, так или иначе, впечатлениями, воспринятыми из окружающей жизни, то есть из сношений с людьми, из созерцания природы или из чтения книг, а тогда, когда на него, без всякой посторонней и видимой причины, находит какое-то особенное, священное бешенство, во время которого он бегает по берегам пустынных волн и по широкошумным дубровам. Вся теория, очень любезная многим поэтам и превращающая поэта в совершенно исключительное существо, не похожее на обыкновенных людей, выразилась чрезвычайно ярко в той фикции, что Аполлон требует поэта к священной жертве. Эта фикция оказывается непереводимою на обыкновенный человеческий язык, потому что в действительной жизни нет такого процесса, который соответствовал бы призыванию поэта к священной жертве. Уничтожая Аполлона, то есть обособление и олицетворение, вдохновляющей силы, увы уничтожает не только внешнюю форму, но также и все внутреннее содержание пушкинской пьесы.
В действительности, вся поэтическая деятельность всякого поэта зависит безусловно, во-первых, от его организма, то есть от склада его ума и характера, а во-вторых,— от того общества, в котором он живет. Стало быть, в действительности между личностью поэта и его деятельностью никогда не бывает и не может быть того резкого противоречия, которое так эффектно воспевает Пушкин. Если сам поэт ничтожен и если он живет среди ничтожных детей мира, то и произведения его окажутся вполне ничтожными! В действительности роль божественного глагола могут играть в отношении к поэту только впечатления окружающей жизни. Но этот божественный глагол не умолкает ни на одну минуту; жизнь постоянно волнует, так или иначе, ум и чувство того человека, который способен вглядываться в ее явления и понимать ее выразительный, но не для всех одинаково доступный язык. Стало быть, если человек обладает чутким слухом и если душа этого человека способна встрепенуться, как пробудившийся орел, заслышав божественный глагол жизни, то этому человеку некогда будет малодушно погружаться в заботы суетного света и этой душе некогда будет вкушать хладный сон. Душа, способная слышать и понимать божественный глагол жизни, будет слушать его постоянно и, следовательно, будет постоянно находиться в страстно напряженном положении бодрствующего орла.
На это можно возразить, что человеческие нервы не выносят постоянного напряжения. Это справедливо. Поэт, как и всякий другой человек, нуждается в отдыхе, но отдых, то есть полоса бездействия, необходимая для восстановления потраченных сил, не имеет ни малейшего сходства с малодушным погружением в суетные заботы света. Это малодушное погружение для каждого умного и замечательного человека бывает обыкновенно гораздо изнурительнее, чем самый напряженный процесс творчества. Во время отдыха поэт, исследователь или какой-нибудь другой общественный деятель откладывают в сторону труд, но они все-таки постоянно остаются на той высоте умственного развития, на которую они сумели поставить себя всем процессом своей трудовой жизни. Если поэт искренно презирает дряблость и мелочность того общества, среди которого ему приходится жить, то это презрение будет оставаться в его душе даже и тогда, когда оно не будет служить ему темою и канвою для стихотворений или для романов. Если исследователь сумел отделаться посредством своих научных занятий от различных предрассудков, то он не подчинится этим предрассудкам в то время, когда будет отдыхать от своих работ. Если член парламента глубоко проникнут известными политическими стремлениями, то он не откажется от этих стремлений, тогда, когда превратится на несколько недель в беззаботного туриста или в скромного сельского джентльмена. Спящий атлет все-таки остается атлетом, то-есть не превращается в плюгавого и бессильного карлика, хотя, разумеется, он не может совершать во время сна никаких подвигов силы, ловкости и мужества.
Бывают, конечно, минуты, когда божественный глагол жизни раздается особенно громко, так что становится вразумительным даже для тех мелких, легкомысленных или тупоумных людей, которые не замечают или не понимают его в обыкновенное время. В жизни человеческих обществ бывают такие торжественные или критические минуты, когда все общество, сверху донизу, чувствует необходимость сосредоточить все свои силы для ожесточенной борьбы с внешними или с внутренними врагами. В такие минуты появляются обыкновенно целые тучи поэтов, порожденных тревожным настроением общества. В 1854 году такие скороспелые поэты сулили всевозможные бедствия французам, англичанам и туркам. В 1857 году такие же точно поэты стыдили нас тем, что мы очень долго спали, и уверяли нас честью, что теперь мы проснулись. Нет сомнения, что и крымская война и все последовавшие за нею преобразования составляют очень знаменательную эпоху в исторической жизни нашего общества; но нет также ни малейшего сомнения в том, что все поэты, ругавшие лорда Пальмерстона и толковавшие о нашем возрождении, не произвели ровно ничего, кроме утомительного жужжания. Божественный глагол жизни дошел до них тогда, когда его уже услышали и почувствовали все классы русского общества. Поэты не сделали ровно ничего для разъяснения тех событий, которыми было поражено внимание общества; в продолжение нескольких лет поэты наигрывали только различные вариации на те темы, которые были даны им настоящими руководителями общественного сознания.
Значит, хотя души мелких людишек, вообразивших себя поэтами, действительно встрепенулись от громких нот божественного глагола, однако эти души оказались все-таки не пробудившимися орлами, а только бессильными и пискливыми трясогузками. И эта участь всегда и везде постигает тех людей, которые стремятся быть поэтами, не умея и не желая предварительно сделаться мыслящими людьми и честными гражданами. Такие господа, разумеется, готовы превознести до небес то стихотворение Пушкина, которое я разбираю в настоящую минуту. Блестящие фигуры и фразы этого стихотворения предоставляют каждому рифмоплету полнейшее право быть пошлым дураком и отъявленным негодяем; эти фигуры и фразы дают ему даже драгоценную возможность рисоваться своею глупостью и своим негодяйством.— Друг любезный, спрашиваете вы у такого господина, зачем ты баклуши бьешь?— Затем, mon cher, отвечает он вам с благородной гордостью, что Аполлон не требует меня к священной жертве.— А когда ж он тебя «потребует?— А я почем знаю! Поди спроси у Аполлона.— А зачем ты пьянствуешь?— Затем, что душа моя вкушает хладный сон.— А взятки зачем берешь?— Затем, что я малодушно погружен в заботы суетного света.— А зачем ты своего вице-директора в плечико целуешь?— Затем, что я быть может ничтожнее всех ничтожных детей мира.— Да ведь все это, братец ты мой, очень скверно.— Нисколько не скверно. Все это доказывает только, что я — самый настоящий поэт, что душа моя встрепенется, как пробудившийся орел, что у меня зазвенит в ушах и что я убегу от моего вице-директора в широкошумные дубровы.— Скатертью тебе дорога, любезный друг.
VI.
В 1828 году Пушкин написал стихотворение «Чернь», в котором, по словам Белинского, заключается — его «художническое profession de foi». Выдержками из этого стихотворения любители чистого искусства обыкновенно подкрепляют свои умозрения. Я приведу это стихотворение вполне, потому что в нем каждое слово есть драгоценный перл для беспристрастной оценки Пушкина.
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел, а хладный и надменный,
Кругом народ непосвященный,
Ему бессмысленно внимал.
Лира и пение составляют также обломки того старого мифологического балласта, с которым никак не может расстаться Пушкин. Превращая поэта в жреца Аполлона, давая ему в руки вдохновенную лиру, заставляя его петь, Пушкин этими ветхими побрякушками глубоко искажает не только внешний вид, но вместе с тем и внутренний смысл того явления, которое в наше время называется поэзией. Современный поэт — не певец, а писатель и продавец исписанной бумаги. Современная публика — не слушатели, а читатели и покупщики печатной бумаги. Между поэтом и публикой являются посредницами целые обширные отрасли промышленности. Произведение поэта проходит через типографию, через мастерскую переплетчика, через книжную лавку и, в случае успеха, распространяется по целой обширной стране, иногда даже по целой части света, иногда даже по всему образованному миру. Когда слово поэта было песнью, которая бесследно улетала в воздухе или запоминалась только немногими восторженными слушателями, тогда поэт имел полное право бряцать по лире рассеянною рукою, особенно если у него было несколько десятков рабов, одаренных менее рассеянными руками и употреблявших эти руки не на бряцание, а на пахание и засевание земли. Но когда слово поэта, пройдя через печатный станок, приобретает себе способность действовать на сотни тысяч людей и управлять умственным развитием целых поколений, когда поэт призывает к себе на помощь десятки рабочих рук, которые набирают, оттискивают, корректируют, брошюруют, перевозят и распродают его произведения, когда он, наконец, берет себе деньги с своих читателей и обожателей,— тогда рассеянное бряцание становится уже делом в высшей степени неприличным. Живя в таком обществе, которое отрицает рабство и, следовательно, по всем правилам здоровой логики, принуждено относиться серьезно и благоразумно к человеческому труду, поэт постоянно должен отдавать себе самый строгий отчет в том, зачем он посягает на труд наборщиков, печатников, корректоров, переплетчиков, разносчиков; зачем он посягает на деньги и на время своих читателей, то-есть также на труд этих читателей или каких-нибудь других людей, находящихся от них к экономической зависимости, и наконец, зачем он сам тратит свое время и свой труд, которые он мог бы употребить на какое-нибудь дело, выгодное для него самого и полезное для общества?
Удовлетворительный ответ на все эти неизбежные и неотразимые вопросы должно давать содержание и направление той песни, которую поэт поет для толпы, или проще и точнее, того произведения, которое он пишет для своих читателей и продает своему издателю. На самом деле рассеянное бряцание или, другими словами, бессознательное творчество в настоящее время не только неприлично, но даже совершенно невозможно. Те самые поэты, которые горячо защищают рассеянное бряцание в теории, на практике оказываются вовсе не рассеянными бряцателями, а, напротив того, очень тщательными и усидчивыми шлифовальщиками сцен, картин, подробностей, языка и стиха. Усерднейший адвокат рассеянного бряцания, Пушкин жестоко черкал и перемарывал свои рукописи, что уже нисколько не похоже ни на рассеянное бряцание, ни на бессознательное творчество. Если бы Пушкину вздумалось подражать на практике тому поэту, который «по лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал», то мы в настоящую минуту, конечно, не имели бы никакого понятия о том, что жил на свете некий Пушкин, о чем-то рассеянно бряцавший. Продукты рассеянного бряцания, небрежно написанные, вялые, бледные и неблагозвучные стихи, не нашли бы себе ни издателей, ни покупателей, ни читателей, ни обожателей, ни подражателей. Имя Пушкина кануло бы в вечность вместе с его рассеянным бряцанием. Чувство самосохранения заставляет таким образом поэтов откладывать в сторону, горделивую рассеянность, когда они приступают к той стороне своего труда, которая затрогивает особенно близко их собственные интересы. Они знают, что публику надо приманивать красотою и яркостью внешней формы; они знают, что без этой приманки им не добыть себе ни денег ни известности; поэтому они натрудятся над внешней формой без малейшей рассеянности, как простые чернорабочие. Но, тщательно выгораживая таким образом свои собственные выгоды, тщательно обеспечивая за собою посредством самого напряженного труда верный и прибыльный сбыт своих произведений, поэты пушкинского закала напускают на себя неизлечимую рассеянность, как только заходит речь о выгодах тех людей, которые покупают и читают их произведения. Перед самим собою поэт совершенно прав. На вопрос: «Зачем вы тратите труд и время?» — он может отвечать преспокойно: «Затем, чтобы приобрести деньги и известность». — Резон совершенно достаточный. Деньги и известность — такие хорошие вещи, за которыми гоняются без отдыха все люди, не совсем задавленные нуждою, имеющие возможность думать о чем-нибудь, кроме черствого куска насущного хлеба. Но о том, чтобы оказаться правым перед другими людьми, поэт, по своей милой рассеянности, совершенно не умеет и не желает думать. На вопрос: «зачем вы предлагаете вашим соотечественникам такое чтение, которое не дает им ни новых идей ни фактических знаний?» — поэт ответит вам: «а мне какое дело? Chacun chez soi, chacun pour soil. Я их не заставляю, покупать мои произведения».— Спросите у купца толкучего рынка: «зачем вы, мой почтенный, торговлю ведете?» — Он вам ответит: «затем, чтобы капиталы свои приумножить».— Спросите у него далее: «а зачем вы, мой почтенный, продаете такой товар, который никуда не годится?» — Он вам ответит: «стало быть, годится-с, когда покупают. Наше дело продать-с, а их дело смотреть-с. На то им от Бога глаза даны-с, и насильно-с мы никому товара нашего не всучиваем».
Сходство между общественною деятельностью рассеянного поэта и торговыми операциями искусного щукинского негоцианта окажется полное и поразительное, особенно если мы припомним, что просвещенный наш негоциант очень сильно заботится о внешней благовидности того товара, которого он никому не всучивает насильно, подобно тому, как вдохновенный бряцатель очень сильно трудится над внешнею отделкою тех произведений, которых он также никому не навязывает насильно.
Пушкин говорит, что поэту бессмысленно внимал хладный и надменный народ. Все три ругательные эпитета, которыми охарактеризован народ, не только сами по себе нелепы, но даже совершенно противоречат тем чертам, которыми сам же Пушкин обрисовывает народ в том же стихотворении. Что народ слушает не бессмысленно, это видно из того, что он высказывает о песне поэта очень верные замечания, против которых поэт не находит никаких аргументов, кроме энергических ругательств и ничтожных насмешек, желающих быть язвительными. Что народ не может быть назван хладным,— видно из того, что он поддается влиянию даже той песни, которой бесцельность он сам замечает и осуждает. Народ говорит о поэте: «Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей». Если народ чувствует в своем сердце волнения и мучения в такой сильной степени, что даже уподобляет поэта своенравному чародею, то где же та хладность, в которой упрекает его Пушкин?— Что народ не может быть назван надменным — видно из того, что этот народ смиренно кается перед поэтом в своих грехах, просит поэта быть его руководителем и обещает терпеливо и внимательно выслушивать его резкие наставления. А надменным оказывается, напротив того, поэт, который на эту смиренную просьбу народа отвечает: «убирайтесь к ч….!» Хладным оказывается также поэт, которого не трогают ни пороки ближних, ни их раскаяние, ни их желание исправиться.
Бессмысленным оказывается опять-таки тот же поэт, который, как мы увидим дальше, советует народу врачевать душевные недуги бичами, темницами и топорами. Если можно в чем-нибудь упрекнуть непосвященный народ, то разве только в том, что он, по свойственной всякому народу наклонности ротозейничать и кланяться в пояс, остановился слушать пение такого отъявленного кретина, а потом у этого же безнадежного кретина вздумал выпрашивать себе разумных советов.
VII.
(это уже четвертое ругательное слово, измышленное любвеобильным Пушкиным для посрамления непосвященного народа):
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
(Поэзия сама себе цель, т.-е., когда творения поэта раскуплены, тогда высшая и последняя цель достигнута.)
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна;
Какая польза нам от ней?
Приписывая тупой черни эти слова, Пушкин, очевидно, желает выразить ими то, что непосвященный народ, несмотря на всю грубость своих чувств, несмотря на силу своих антиэстетических предубеждений, невольно и даже неохотно, но все-таки подчиняется неодолимому и волшебному обаянию поэтической песни. Несмотря на свои недоброжелательные отношения к чистому искусству, народ сознается, что поэт поет звучно и что он даже волнует и мучит сердца, как своенравный чародей.
Заставляя чернь произносить эти последние слова; Пушкин чересчур увлекся своим желанием превознести волшебную силу поэзии. Спрашивается: может ли действительно волновать и мучить сердца такой поэт, который ничему не учит своих читателей, не ведет их ни к какой определенной цели и не приносит им никакой пользы? <…>Если бы пение поэта наводило слушателей на серьезные размышления, если бы оно пробуждало или усиливало в них любовь к истине, ненависть к обману и к эксплуатации, презрение к двоедушию и к тупоумию, то народу оставалось бы только слушать и благодарить, а поэту не было бы ни малейшего основания ссориться с тупою чернью, зараженною грубыми утилитарными предрассудками.
Чтобы объяснить себе размолвку, происшедшую между певцом и его слушателями, надо предположить, что поэт пел о красоте летнего утра или о том, что какой-нибудь он очень сильно любил и крепко целовал какую-нибудь её. Воспевание летнего утра не могло волновать и мучить сердца, потому что подобные воспевания играют в поэзии такую же скромную и невинную роль, какую играют в общежитии поучительные беседы о прекрасной погоде. Воспевание любви и поцелуев может, конечно, волновать и мучить, но для большей точности надо было бы сказать, что это воспевание волнует и мучит не сердца, а чувственность. Эротические песни находят себе обыкновенно многочисленных и усердных слушателей; если же эротическая песня пушкинского поэта казалась народу бесплодною и если он вместо нее требовал себе такого пения, которое вело бы его к известной цели и приносило бы ему осязательную пользу, если он не довольствовался тем, что волновало его чувственность, то надо сознаться, что поэт имел дело с такою чернью, которая стояла на необыкновенно высокой степени умственного развития и отличалась замечательно-серьезным и разумным взглядом на жизнь.
Мне могут возразить, что песнь пушкинского поэта не была эротическою песнью и что, следовательно, неудовольствие черни против этой песни не доказывает еще, чтобы эта чернь относилась презрительно и насмешливо к приятному щекотанию чувственности. Но в таком случае я спрошу: какую же песнь мог петь поэт? Потрудитесь найти, кроме эротической песни, какую-нибудь песнь, которая могла бы волновать и мучить сердце, не удовлетворяя в то же время всем требованиям утилитарного взгляда на жизнь. (Конечно, мы знаем такую песнь, и не одну, но для революционного демократа Писарева их, по-видимому, не существовало. – Прим. ред.) Тупая чернь, очевидно, требует от поэта плодотворных мыслей; а поэт, неспособный мыслить, дает ей яркое описание мелких ощущений, которые всякому известны, всякому понятны и приятны в действительной жизни, но в песне интересны только для шаловливых отроков или для бессильно-сластолюбивых стариков. Чернь не удовлетворяется соблазнительными картинками, и это обстоятельство, конечно, делает честь ее здоровым умственным способностям. Приписавши черни слова о том, что песнь поэта волнует и мучит сердца, Пушкин, совершенно неожиданно для самого себя, затронул вопрос: может ли бесполезная поэзия сильно действовать на человека? Я рассмотрел теперь этот вопрос и пришел к тому заключению, что бесполезная поэзия всегда бывает в то же время бессильною поэзиею, то есть она или не производит совсем никакого впечатления или действует самым поверхностным образом только на тех умственно-недозрелых субъектов, которые способны упиваться балетными позами —Услышав рассуждения черни, кретин, произведенный Пушкиным в поэты, начинает ругаться:
Поденщик, раб нужды, забот!
(поденщик, по мнению кретина, — бранное слово. Попрекать человека тем, что он беден и трудится, значит, по мнению того же кретина, обнаруживать благородство чувств и возвышенность помыслов).
Ты — червь земли, не сын небес!
(Детьми небес оказываются, во-первых, рассеянные поэты, а во-вторых, те искусные негоцианты толкучего рынка, которые, как мы видели в предыдущей главе, обходятся с публикою столь же рассеянно, как самые ревностные жрецы чистого искусства.)
(«ишь чего захотел! Тебе бы все хорошего товару!» думает про себя искусный негоциант)
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь — бог!…
(«Себе дороже-с! Самой настоящей английской доброты!» распинается негоциант за такую гниль, которая нейдет у него с рук.)
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.
Ну, а ты возвышенный кретин, ты — сын небес, ты в чем варишь себе пищу, в горшке или в бельведерском кумире? Или может быть ты питаешься такою амброзиею, которая ни в чем не варится, а присылается к тебе в готовом виде из твоей небесной родины? Или может быть ты скажешь, что совсем не твое дело рассуждать о пище, и отошлешь нас за справками к твоему повару, то-есть к одному из червей земли, к одному из тех жалких рабов нужды, которые ценят на вес твоего мраморного бога?— Повар твой, о, кретин, скажет нам, наверное, что твоя пища варится в горшках и в кастрюлях, а не в кумирах, и скажет нам, кроме того, в какую цену обходится тебе твой обед. Тогда мы узнаем, что ты съедаешь в один день такую массу человеческого труда, которая может прокормить раба нужды с женою и с детьми в течение целого месяца. Тогда, поговоривши с твоим поваром, мы увидим, ясно, в чем состоит несомненное превосходство детей неба над червями земли. Червь земли живет впроголодь, а сын неба приобретает себе надежный слой жира, который дает ему полную возможность создать себе мраморных богов и беззастенчиво плевать в печные горшки неимущих соотечественников.
«Он ничего не отрицает,— говорит Белинский о Пушкине,— ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением»… «Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота и лелеющая душу гуманность»… «Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина»… «Никто, решительно никто из русских поэтов не стяжал себе такого неоспоримого права быть воспитателем и юных, и возмужалых, и даже старых читателей, как Пушкин».
Все эти сладкие слова Белинского превращаются в жесточайшую иронию, когда вы ставите их рядом с словами самого Пушкина, взятыми из того стихотворения, которое сам же Белинский считает его «поэтическим profession de foi». Он ничего не отрицает и не проклинает — кроме всего трудящегося человечества. Он смотрит с любовью и благословением на все — то-есть на весь петербургский beau monde и даже на всех людей comme il faut, живущих в Москве и в провинции. Общий колорит поэзии Пушкина—внутренняя красота человека… проводящего свою жизнь в благородной праздности и посвящающего свои досуги пищеварению и созерцанию мраморных богов,— и лелеющая душу гуманность в отношении к детям небес, которые презирают и топчут в грязь червей земли. Есть всегда что-то особенно благородное (о, да!), кроткое, нежное, благоуханное и грациозное в том презрении, с которым Пушкин кричит на бессмысленный народ, бросая ему в лицо, как сильные ругательства, святые слова: поденщик и раб нужды. Никто, решительно никто из русских поэтов не стяжал себе такого неоспоримого права быть воспитателем и юных, и возмужалых, и даже старых читателей, как Пушкин, потому что никто, решительно никто из русских поэтов не может внушить своим читателям такого беспредельного равнодушия к народным страданиям, такого глубокого презрения к честной бедности и такого систематического отвращения к полезному труду, как Пушкин. Не для того я произвел это убийственное сопоставление, чтобы глумиться над священною памятью нашего великого учителя Белинского, а для того, чтобы показать читателям, до какой степени опасны и губительны бывают эстетические увлечения даже для самых сильных и замечательных умов. Посмотрите, в самом деле, какого воспитателя рекомендует Белинский всей читающей России! Хороши бы мы были, если бы мы принимали каждое слово Белинского за изречение оракула!— На ругательства сына небес черви земли отвечают следующею смиренною просьбою:
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем — хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Бывают ли в действительной жизни какие-нибудь явления, соответствующие до некоторой степени этому обращению черни к поэту?— Бывают, и одно из таких явлений совершилось на глазах тех русских людей, которые живы и здоровы до настоящей минуты. Мы все помним очень живо тот пафос самообличения и публичного покаяния, который овладел нашим обществом после окончания крымской войны и который, к сожалению, по прошествии двух-трех лет снова заменился для большинства сонным и тупым самодовольством катковской школы. «В те дни, когда нам были новы» все невинные проявления нашей робкой и скромной полугласности, в те веселые и счастливые дни для нашего общества не существовало никакой беллетристики, кроме обличительной. На внимание публики могли рассчитывать только те писатели, которые обнаружили в своих произведениях искреннее или неискреннее, но во всяком случае громкое негодование против различных общественных зол, подлежащих ведению нашей тогдашней полугласности. Даже катковская школа, всегда питавшая наклонность к сладостному оптимизму, не в силах была сопротивляться требованиям читающей публики; громадный и быстрый успех «Губернских очерков» положил, как известно, самое прочное основание могуществу «Русского Вестника». Итак, тупая чернь требовала в то время от своих поэтов, чтобы они, «любя ближнего», давали ей «смелые уроки» и постоянно держали перед ее глазами длинный список ее глупостей и подлостей. А что же делали в то время поэты? Что делали самые ревностные жрецы чистого искусства?— О, как только тупая чернь ясно сформулировала свои требования, как только обнаружился сильный запрос на обличительный товар, на прогрессивные стремления и на гражданские чувства,— так тотчас самые эфирные мотыльки нашего поэтического вертограда, наперерыв друг перед другом, стали прикладывать к делу русскую поговорку: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Все оказались раболепными угодниками тупой черни, все начали усердно подделываться под господствующий тон, все почувствовали неодолимую потребность заявить в стихах и в прозе, что они тоже любят отечество, что они тоже тяготятся застоем мысли и жизни, что они тоже печалятся о бедности русского мужика и что они вообще — не последняя спица в колеснице русского прогресса. Словом, тупая чернь сделала знак своим поэтам, и поэты, как расторопные слуги, со всех ног кинулись исполнять приказания своего властелина, то есть той самой тупой черни, с которою так кавалерственно обращается неправдоподобный поэт, придуманный Пушкиным. И никому из жрецов чистого искусства не пришло в голову крикнуть печатно: «молчи, бессмысленный народ!» Ни у кого не хватило храбрости открыто и решительно пойти против течения. Всякий, кто только мог двумя-тремя дешевыми гражданственными фразами заработать себе два-три взрыва столь же дешевых рукоплесканий, никак не решался отказать своему мелкому тщеславию в этом копеечном удовлетворении. В поте лица своего склеивал жрец чистого искусства какую-нибудь неуклюжую и бледную подделку под некрасовский тон и потом млел и сиял от удовольствия, когда неприхотливые слушатели встречали и провожали его рукоплесканиями на публичном чтении.
Стало быть, если бы когда-нибудь тупая чернь обратилась прямо к известному лицу, требуя себе от него смелых уроков во имя любви к ближнему, если бы общественное мнение целой страны с любовью и с надеждою остановилось на имени известного поэта и провозгласило этого поэта учителем и руководителем общества и народа, то не подлежит ни малейшему сомнению, что любимец Муз и Граций, не слыша под собою ног, кинулся бы в ту сторону, куда посылал бы его народный голос. Если не любовь к народу, то тщеславие, если не тщеславие, то боязнь быть осмеянным и оплеванным заставили бы его поступить таким образом. Тщеславие составляет преобладающую, быть может даже единственную сильную страсть чистых художников, то есть тех художников, которые воображают себе, что все их способности поглощены бескорыстным и бесцельным служением искусству. Не трудно себе представить, как сильно должна разыграться эта преобладающая страсть, когда художник увидит себя предметом всеобщего внимания и самых напряженных ожиданий, возбужденных в читающей массе силою и яркостью его таланта. В эту минуту от самого художника, то есть от того направления, которое примет его деятельность, будет зависеть — сделаться идолом толпы или ее посмешищем. Тщеславие, конечно, потянет его вниз по течению.
Спрашивается теперь, какая же сила составит противовес этому тщеславию? Какая сила застрахует поэта против того эпидемического увлечения, которое обыкновенно овладевает всеми впечатлительными людьми, когда они видят, как увлекаются тою или другою идеею целые массы! Какая сила заставит поэта плыть против течения и таким образом накликать на себя со стороны увлеченных соотечественников упреки, насмешки и оскорбления? Какая сила, наконец, заставит его подвергаться еще более страшной опасности, самой страшной из всех опасностей, угрожающих художнику,— опасности превратиться в ходячий анахронизм и затеряться заживо в пыльной груде забытой литературной старины?
Единственною силою, которая должна отдуваться за все про все, оказывается любовь поэта к чистому искусству, к служению Муз, которое не терпит суеты. Мечтать о том, чтобы это туманно-метафизическое или антично-мифологическое чувство одержало победу над всеми искушениями предстоящей популярности,— было бы просто смешно. Достаточно припомнить, что все отрасли искусства всегда и везде подчинялись мельчайшим и глупейшим требованиям изменчивого общественного вкуса и прихотливой моды. Красота художественного произведения сама по себе — вещь чисто условная; поэтому привязанность человека к этой условной и относительной красоте никогда не может быть настолько сильною, чтобы служить ему надежною опорою в серьезной борьбе с господствующими требованиями времени и народа. Итти наперекор ясно выраженным желаниям массы можно только из горячей любви к этой же самой массе. Только живая, естественная и искренняя любовь человека к людям может дать передовому мыслителю или деятелю непоколебимую самоуверенность, силу и мужество, необходимые для того, чтобы встретить и выдержать жестокую бурю близорукого общественного негодования и медленную пытку незаслуженного презрения. Всякие искусственные, тепличные и напущенные чувства, в том числе, разумеется, и уморительная любовь художника к служению Муз, нетерпящему суеты, изломаются и исчезнут без следа при первом столкновении с требованиями общества, хотя бы даже эти требования были сами по себе совершенно неосновательны.
В стихотворении Пушкина выходит совсем наоборот: поэт торжественно отказывается от популярности, громко проклинает тупую чернь и погружается в одинокое созерцание чистой красоты, понятной только для посвященных. Эта совершенно неправдоподобная развязка объясняется очень легко и совершенно удовлетворительно тем обстоятельством, что общество, в котором жил Пушкин, спало мертвым сном, так что Пушкин не имел возможности составить себе приблизительно-верного понятия о том, что такое общественное мнение, что такое голос тупой черни и в какой степени заразительны и увлекательны бывают общественные страсти. Можно предположить даже, что все стихотворение Пушкина было вызвано какою-нибудь тупою и пошлою критическою статьею Булгарина, упрекавшего его в безнравственности и требовавшего от него поучительных стихов и медоточивых рассказов. Булгарин или какой-нибудь другой артист того же достоинства по всей вероятности показался Пушкину представителем массы и проводником ее умственных требований; дрянное поползновение булгаринской клики к пошлой нравоучительности принято Пушкиным за чистейшее выражение принципа утилитарности. Это предположение в высшей степени правдоподобно, потому что, действительно во времена Пушкина в нашей литературе не было еще ни одного писателя, который постоянно и добросовестно защищал бы интересы масс и смотрел бы с чисто утилитарной точки зрения на все явления жизни, науки и искусства. Значит, Пушкин, ругая чернь и глумясь над идеею пользы, ратует против таких вещей, которых он никогда не видал в глаза. Отсюда происходит та неосновательная храбрость и то комическое озлобление, которые обнаруживает пушкинский поэт в отношении к тупой черни, терпящей горькую напраслину за глупости и подлости булгаринской клики.
Подобное зрелище нам случилось видеть очень недавно. Разгоряченный нападениями «Искры», г. Писемский написал против нее огромный роман, в котором старался доказать, что отечество находится в опасности и что молодое поколение погибает в бездне заблуждений. В делах отечества и молодого поколения г. Писемский оказывается совершенно таким же компетентным судьею, каким оказывается Пушкин в вопросе о требованиях общественного мнения и об идее утилитарности. Оба говорят о том, чего они не знают, и оба принимают за воплощение принципа такую случайную и ничтожную мелочь, которая ни с каким принципом не может иметь ничего общего. Такие комические ошибки, конечно, не делают особенной чести ни природному их остроумию ни широте и основательности их благоприобретенного умственного развития.
VIII.
Не угодно ли послушать ответ пушкинского поэта:
Подите прочь, какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас;
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор — полезный труд!—
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Этими торжественными словами оканчивается стихотворение, и тут можно именно сказать, что конец венчает дело. Если бы какой-нибудь злейший враг чистого искусства захотел закидать его грязью и погубить его во мнении общества, то вряд ли бы он придумал для своей обвинительной речи что-нибудь сильнее и убийственнее тех слов, которые Пушкин так простодушно и откровенно приписывает своему поэту.
Мирному поэту нет дела до умственных и нравственных потребностей народа; ему нет дела до пороков и страданий окружающих людей; ему нет дела до того, что эти люди желают мыслить и совершенствоваться и просят себе живого слова и разумного совета у того, кто сам себя величает Сыном небес и в ком они также признают избранника небес и божественного посланника. Спрашивается в таком случае, до кого и до чего же ему есть дело?— До самого себя и до своих собственных ощущений? До веселой попойки с любезным другом Ивановым, до приятной болтовни с чудесным малым Семеновым, до катанья на тройке с отличным товарищем Андреевым? До золотых локонов прелестной А, до лебединой шеи очаровательной В, до маленькой ножки несравненной С, до голубых очей восхитительной D?— Ведь на самом деле, если отодвинуть в сторону все мифологические фиоритуры,— служение Муз, которое не терпит суеты, и священная жертва, к которой Аполлон требует поэта, окажутся просто интимною болтовнёю поэта с милыми друзьями о милых подругах и с милыми подругами о их собственных прелестях. Такая болтовня очень интересна для самого поэта, для его милых друзей и для его милых подруг; но так как у каждого отдельного человека есть свои собственные милые друзья и свои собственные милые подруги, то, при таком направлении творческой деятельности, поэзия превращается в дело или, вернее, в забаву частных кружков и совершенно теряет свою способность служить высшею нравственною связью между всеми грамотными членами известной нации.
Так оно и было действительно у нас, в России, в первой четверти нынешнего столетия. Чтобы дать читателям легкое понятие о том, каким грациозно-младенческим забавам предавались тогдашние корифеи поэзии, я приведу здесь небольшую выписку из «Материалов для биографии Пушкина», собранных Анненковым.
«В 1815 году еще продолжалась борьба, возникшая по поводу нововведения Карамзина, и противники его направления сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова» (должно быть не нашего), к членам которой принадлежали многие даровитые люди; в числе их был и кн. Шаховской. Все молодое, желавшее новых форм для поэзии и языка и свежих источников для искусства вообще, пристроилось к другому обществу — Арзамасу. Арзамас порожден был шуткой и сохранял основной характер свой до конца. Один веселый и остроумный рассказ под названием «Видение во граде» вызвал его на свет. В рассказе передан был анекдот о некоторых скромных людях, собравшихся раз на обед в бедный арзамасский трактир. Стол их был покрыт скатертью, белизны не совсем беспорочной, и нисколько не был отягощен изобилием брашен. В средине беседы прислужник возвестил им, что какой-то проезжий остановился в трактире и, по-видимому, находится в магнетическом сне. Хотя любопытство — и приписывается исключительно прекрасному полу, но друзья Арзамаса доказали противное. Они отправились наблюдать нового ясновидящего у дверей и увидели высокого, толстого человека, который ходил беспрестанно по комнате, произнося непонятные тирады и афоризмы. Последние они тут же записали, но скрыли все собственные имена, потому что незлобивость и добродушие составляли и составляют отличительную черту Арзамаса. Едва разнеслась эта шутка, в которой не трудно было отгадать все тонкие намеки ее, как автор получил от одного из своих друзей приглашение на первый арзамасский вечер. Продолжая шутку, лица арзамасского вечера назвались именами из баллад В. А. Жуковского и, наподобие французской академии, положили правило: всякий новоизбранный член обязан был сказать похвальное слово — не умершему своему предшественнику, потому что таких не было, а какому-либо члену «Беседы любителей русского слова» или другому известному литератору. Так произнесены были похвальные слова Г. Захарову, переводчику «Авелевой смерти» Геснера, «Велисария» г-жи Жанлис и «Странствований Телемака» Фенелона, Г. А. Волкову — автору «Арфы стихогласной» и мног. др. Секретарь общества, В. А. Жуковский, вел журнал заседаний, и протоколы его представляют автора «Людмилы» с другой стороны, еще неуловленной биографами (ах, биографы! чего вы смотрите?),— со стороны вообще веселого характера. Это образцы самой забавной и вместе самой приличной шутки».
Вот каковы были те господа, по поводу которых Белинский проводил идею органического развития. И вот каково было то высокое служение Муз, которое налагало на поэта обязанность игнорировать и презирать потребности, пороки и страдания тупой черни, то есть всего русского общества. Здесь, как видите, навязывание бумажки на Зюзюшкин хвост было возведено в принцип и обставлено торжественными обрядами. К этому многотрудному и систематическому навязыванию Пушкин, по свидетельству того же г. Анненкова, относился постоянно с непоколебимой нежностью.
«Так важно было,— говорит г. Анненков,— влияние Арзамаса на литературу нашу, и надо прибавить к этому, что Пушкин уже сохранил навсегда уважение как к лицам, признанным авторитетами (по части навязывания бумажки?) в среде его, так и к самому способу действования во имя идей, обсужденных целым обществом. Он сильно порицал у друзей своих попытки разъединения (а чем таким они были соединены? Должно быть, общей ненавистью к М. Каченовскому?), проявившиеся одно время в виде нападок на произведения Жуковского (это значит: наших не тронь! и рука руку моет), и вообще все такого рода попытки; да и к одному личному мнению, становившемуся наперекор мнению общему, уже никогда не имел уважения». (Оно и видно, стало быть, что поэт «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Здесь роль народа играет кружок, и поэт оказывается покорным слугою этого кружка.)
В другом месте г. Анненков говорит о Пушкине, что «он сохранил до конца своей жизни существенные, характеристические черты члена старых литературных обществ и уже не имел симпатии к произволу (а в кружках его не было?) журнальных суждений, вскоре заместившему их и захватившему довольно обширный круг действия».
Эти биографические подробности составляют очень выразительный комментарий к тому поэтическому profession de foi, которое изложил Пушкин в стихотворении «Чернь». Мы видим теперь довольно ясно, во имя чего поэт отвертывается от разумных и реальных требований общества. Углубленный в игрушечные интересы разных Арзамасов, поэт приглашает живых людей «смело каменеть в разврате»; он замечает совершенно справедливо, что глас его лиры, посвященной воспоминанию Зюзюшки и ее хвоста, не оживит людей, требующих себе нравственного обновления. Эти люди, дерзающие чего-то требовать, противны его душе, как гробы, потому что они своим докучливым ропотом мешают этой арзамасской душе погрузиться безраздельно в глубокомысленное созерцание зюзюшкиного хвоста. Легко себе, представить, каким гробом должен был показаться Пушкину один неизвестный червь земли, написавший к сыну небес энергическое письмо, из которого г. Анненков приводит следующее замечательные строки; «Когда видишь того, кто должен покорять сердца людей, раболепствующего перед обычаями и привычками толпы, человек останавливается посреди пути и спрашивает самого себя: почему преграждает мне дорогу тот, который впереди меня и которому следовало бы сделаться моим вожатым? Подобная мысль приходит мне в голову, когда я думаю о вас, а думаю я об вас много, даже до усталости. Позвольте же мне итти, сделайте милость. Если некогда вам узнавать требования наши, углубитесь в самого себя и в собственной груди почерпните огонь, который несомненно присутствует в каждой такой душе, как ваша».
Здоровым и мужественным, не арзамасским и не пушкинским взглядом на жизнь проникнуты эти строки. Тому гробу, который просил у Пушкина позволения итти, и всем другим, подобным ему, гробам любвеобильный поэт великодушно советует обратиться за умственным и нравственным совершенствованием к бичам, к темницам и к топорам:
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно с вас, рабов безумных!
Это невероятное четверостишие следует выгравировать золотыми буквами на подножии того монумента, который благодарная Россия без сомнения воздвигнет из своих трудовых копеек своему величайшему поэту. А в ожидании монумента это же самое четверостишие должно сделаться эпиграфом к тому изданию сочинений Пушкина, по которому молодые люди обоего пола будут воспитывать в себе человека.
Предоставив таким образом нравственное воспитание народа бичам, темницам и топорам, пушкинский поэт объявляет, что подобные ему дети небес рождены не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, а для вдохновения, для сладких звуков, для молитв. Все это прекрасно, любезные дети небес, но все это в высшей степени неопределенно. Вы рождены для вдохновения — очень хорошо! Но чем именно вы будете вдохновляться?— вот вопрос, на который вам не мешало бы приискать ответ. Вы рождены для сладких звуков — это тоже недурно! Но кому именно эти звуки будут казаться сладкими? Вы рождены для молитв — превосходно! Но о ком и о чем вы будете молиться?— Если вы, дети небес, будете вдохновляться такими явлениями жизни, которые в каждом неглупом человеке возбуждают негодование и отвращение, если вы, например, будете прославлять дикое насилие, как гениальную твердость, а низкую угодливость, как бескорыстную преданность, то легко может случиться, что все ваше вдохновение будет стоять в глазах ваших соотечественников неизмеримо ниже, чем сметание сора с улиц шумных, о котором вы отзываетесь с самым великолепным презрением. Если вы, дети небес, перед толпою голодных людей будете воспевать достоинства страсбургского пирога и лимбургского сыра, то можно сказать наверное, что ваши звуки, очень сладкие для вас самих и для подобных вам тунеядцев, покажутся вашим голодным слушателям горькою и отвратительною насмешкою над их беспомощным положением. Если вы, дети небес, имея в своих амбарах тысячи четвертей продажной пшеницы, будете молиться о ниспослании на землю града или саранчи для надлежащего повышения рыночных цен, то я не советую вам высказывать вашу молитву во всеуслышание, потому что в какие бы смолисто-тягучие и кристально-прозрачные ямбы или хореи вы ни облекли вашу молитву о граде и о саранче, во всяком случае эта молитва не доставит ни малейшего удовольствия вашим добродушным и трудолюбивым соседям. Таким образом вы видите, о, дети небес, что не всякое вдохновение возбуждает в людях чувство уважения и признательности, что не всякий сладкий звук оказывается сладким для всех слушателей и что не всякая молитва может быть названа высоким подвигом человеколюбия. Стало быть, ты, о, пушкинский поэт, объявляя тупой черни, что вы рождены для вдохновений, для сладких звуков и для молитв, занимаешься произнесением слов, не заключающих в себе никакого определенного смысла.
Кроме того, не мешает заметить,- что у Пушкина слово расходится с делом, или поэтическое profession de foi расходится с поэтическою деятельностью. Объявляя категорически, что поэты рождены не для битв, Пушкин в то же время пишет свои два слишком известные стихотворения: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». И он не только написал и напечатал эти два, в буквальном смысле слова воинственные стихотворения, но даже сам придавал им серьезное европейское значение. «Пушкин,— говорит г. Анненков,— выразил во французском письме к князю Н. Б. Голицыну (переводчику по-французски «Чернеца» Козлова и пьесы «Клеветникам России») чувства, одушевлявшие его во время создания самого стихотворения: «Merci mille fois,— говорит он,— cher Prince, pour votre incomparable traduction de ma piece de vers, lancee contre les ennemis de notre pays… Que ne traduisites-vous pas cette piece en temps opportun? Je l’aurais fait passer en France, pour donner sur lejiez a tous ces vociferateurs de la Chambre des deputes». (Тысячу раз благодарю вас, любезный князь, за ваш несравненный перевод моего стихотворения, направленного против врагов нашей земли… Зачем не перевели вы его во-время?— Я бы переслал его во Францию, чтобы ударить по носу всех этих крикунов палаты депутатов.)
Видите, в самом деле, как это жалко, что князь Голицын опоздал сделать перевод. Попади только это стихотворение во Францию, тогда, само собою разумеется, все крикливые французские депутаты, узнавши, что в России существует воинственный и сердитый стихотворец, monsieur Poushkine, тотчас понизили бы тон и немедленно уразумели бы, что с Россиею ссориться опасно, ибо эта Россия может засыпать Францию растянутыми стихотворениями, тщательно переведенными с русского на французский.
Но как же мы однако ухитримся помирить воинственный азарт Пушкина с тем категорическим объявлением, что поэты рождены не для битв? Для чего же в самом деле, по понятиям Пушкина, рождены поэты и для чего они не рождены?
Если мы окинем общим взглядом теорию и практику Пушкина, то мы получим тот результат, что поэты рождены для того, чтобы никогда ни о чем не думать и всегда говорить исключительно о таких предметах, которые не требуют ни малейшего размышления. Эта формула объясняет совершенно удовлетворительно как уклонение поэта от головоломных требований тупой черни, так и воинственный азарт, стремившийся бить носы французским депутатам. Поэт отказывается от тех битв, которые требуют умственного труда, и кидается очень охотно в те битвы, в которых не нужно ничего, кроме рифмованного крика. В самом деле, если бы поэту захотелось давать тупой черни те смелые уроки, которых она от него требует, то ему пришлось бы очень глубоко задумываться над явлениями общественной жизни, пришлось бы, громя пороки общества, анализировать причины этих пороков, пришлось бы от ближайших и частных причин переходить к более общим и отдаленным,— словом, пришлось бы не столько бряцать, сколько размышлять. Такая умственная работа, во-первых, не всякому бряцателю по силам, а во-вторых, она сопряжена со многими неудобствами; ведь в самом деле Бог знает, до чего можно додуматься, пожалуй, даже до таких вещей, до которых совсем не следует додумываться. Даже г. Полонский и тот знает, что «думы с ветром носятся, ветра не догнать». Напротив того, когда поэту приходит в голову воспеть военные доблести русских богатырей или сделать строжайший выговор непочтительным французским депутатам, тогда поэту не предстоит ни умственного труда, ни неудобств, ни опасностей. Все дело его состоит в том, чтобы придумывать сильные выражения и громкие восклицания.
Кто выиграл сражение или взял штурмом крепость, тот обдумывал план, тот умел воодушевить солдат, тот подвергал опасности собственную жизнь, тот оказал услугу государству, тот может быть назван умным человеком, даже героем, даже спасителем отечества. Но кто воспевает одержанную победу, тот просто перекладывает в стихи газетную реляцию, тот оказывается не поэтом, а стиходелателем, тот не мыслит, а подбирает фразы и рифмы и тот рискует рассмешить своим напущенным восторгом тех самых врагов отечества, которым он стремится сокрушать носы.
IX.
Какими же глазами смотрит Белинский на то «художническое profession de foi» Пушкина, о котором я говорил до сих пор? Отношения Белинского к этому стихотворению в высшей степени неопределенны. «Он презирает чернь;— говорит Белинский о Пушкине,— и на ее приглашение — исправлять ее звуками лиры отвечает словами, полными благородной гордости и энергического негодования».— Затем Белинский выписывает,— просто трудно поверить глазам!— заключительный монолог поэта — тот самый монолог, в котором народу предоставляются в вечное потомственное владение бичи, темницы, топоры, а поэтам отмежевывается область вдохновения, сладких звуков и молитв. И Белинский в этих безумных словах находит благородную гордость.
Выписавши монолог поэта, Белинский рассуждает так: «Действительно, смешны и жалки те глупцы, которые смотрят на поэзию, как на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные нравоучительные мысли, и требуют от поэта непременно, чтобы он воспевал им все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидеть поэзию в самом вдохновенном произведении, если в нем нет общих нравоучительных мест».
Зачем Белинский придумал здесь каких-то глупцов, которым он приписал какие-то глупые требования — этого я решительно не понимаю. Тупая чернь никогда не требовала от поэта, чтобы он воспевал ей все любовь да дружбу. Она требовала от поэта не общих нравоучительных мест, а смелых уроков, что нисколько не похоже ни на общие нравоучительные места ни на любовь да дружбу. Если бы тупая чернь состояла из тех глупцов, которых Белинский называет смешными и жалкими, тогда она совершенно удовлетворилась бы пушкинскою поэзиею, потому что эта поэзия заключает в себе именно то, что нравится смешным и жалким глупцам. Это не я говорю, это говорит сам Белинский. На стр. 399 он объявляет нам, что смешные и жалкие глупцы заставляют поэта воспевать все любовь да дружбу, а на стр. 391 Белинский спрашивает: «что составляет содержание мелких пьес Пушкина?» и отвечает так: «почти всегда; любовь и дружба, как чувства, наиболее обладавшие поэтом и бывшие непосредственным источником счастья и горя всей его жизни».— Значит, смешные и жалкие глупцы Белинского оказываются для Пушкина не тупой чернью, а, напротив того, избранною и посвященною публикою, читающею с восторгом его стихотворения. Значит, Пушкин отвечает словами, полными благородной гордости, не смешным и жалким глупцам, а честным и мыслящим гражданам, которым непременно должен сочувствовать и сам Белинский; значит, наконец, сам Белинский, стараясь прикрыть промахи Пушкина, так запутывается в противоречиях, что вытащить его из них не остается ни малейшей возможности. На стр. 398 он хвалит Пушкина за благородную гордость, а на стр. 400 оказывается, что при этой благородной гордости поэт рискует быть единственным читателем своих произведений. Впрочем, у эстетиков и полуэстетиков такие противоречия даже не считаются противоречиями. На той же 400 странице Белинский в одном месте говорит, что стихотворение «Поэт» превосходно, но что мысль этого стихотворения совершенно ложна.
С нашей реальной точки зрения такое явление немыслимо; по-нашему, если мысль совершенно ложна, то и все стихотворение никуда не годится; но так как эстетики обладают специальною способностью услаждаться стихотворениями, как жареными птичками величиною с наперсток, то, разумеется, на их кабалистическом языке слово превосходно может иметь гастрономическое или какое-нибудь другое, столь же непостижимое для нас значение. Та гордость, с которою Пушкин гонит прочь тупую чернь, по всей вероятности показалась Белинскому благородною с какой-нибудь специально-эстетической точки зрения. В этой гордости на самом деле нет решительно ничего благородного: во-первых, потому, что она совершенно бессмысленна, а во-вторых, потому, что она поддельна, как стоическое равнодушие голодной лисицы к недоступному винограду. Тот факт, что читающая масса значительно охладела к Пушкину во время последнего десятилетия его литературной деятельности,— не подлежит ни малейшему сомнению. Об этом факте говорят очень откровенно и Белинский, и Гоголь, и г. Анненков, и все прочие обожатели Пушкина, Стало быть, поэт гонит от себя чернь задним числом, то есть тогда, когда она сама удалилась от него и когда он увидел свою неспособность воротить ее назад.
Стихотворение «Поэту», написанное в 1830 году, также наполнено назидательными размышлениями о незрелости винограда.
«Поэт,— говорит Пушкин,—
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной
(это, очевидно, говорится по опыту);
(а что же больше-то делать? Ведь не плакать же публично об утраченной популярности?).
Иди, куда влезет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный
(поэт убедительно просит самого себя не нищенствовать перед толпою и доказывает самому себе очень основательно, что получить от толпы подаяние не предвидится ни малейшей надежды).
Всех строже оценить умеешь ты свой труд
(строже может быть, но только не с той точки зрения, с какой его ценят другие).
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
В этом стихотворении, которое у Белинского также оказывается превосходным, мне особенно нравится та решимость, с которой взыскательный художник, в пику равнодушной толпе, провозглашает себя царем.— Вы, мол, негодяи, не хотите называть меня в ваших глупых журналах гениальным поэтом, а я сам возьму да и назову себя царем; вот вы и останетесь в дураках.— Впрочем, этот произвольно зародившийся царь оказывается царем самого странного фасона: у него нет ни придворного штата, ни льстецов, ни подданных, ни средств действовать так или иначе на жизнь окружающего общества. Этот своеобразный царь может смело завести дипломатические сношения с теми царями, которых резиденция находится в Бедламе или в Бисетре и которые также живут одни, потому что, вступивши на престол, потеряли способность жить скромно и прилично в обществе здравомыслящих людей.
В 1831 г. в стихотворении «Эхо» Пушкин жалуется на то, что поэт, как эхо, откликается на всякий звук живой природы, а между тем сам не находит себе отзыва нигде. Жалоба неосновательна и сравнение неудачно. Поэт не находит себе отзыва только в том случае, когда он сам не откликается на те явления, идеи, чувства и стремления, которые составляют преобладающий интерес в жизни его современников и соотечественников. Другими словами: только тот поэт рискует быть единственным читателем своих произведений, который поет про себя и для себя, презирая толпу.
В стихотворении «Памятник», написанном в 1836 году, Пушкин, уже шесть лет тому назад провозгласивший себя царем, производит себя в бессмертные гении и в благодетели человечества. Наш бессмертный гений прямо говорит:
Я памятник воздвиг себе нерукотворный;
К нему не зарастет народная тропа:
Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа (это называется: excusez du peu!).
Нет! весь я не умру. Душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук Славян, и Финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей — Калмык,
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал (?),
Что прелестью живой стихов я был полезен (?)
И милость к падшим призывал (?).
Превознося самого себя выше облака ходячего и умилившись достаточно над всеми своими человеческими и даже гражданскими добродетелями, Пушкин вдруг напускает на себя кротость, смирение и равнодушие к той самой славе, в которой он превзошел Наполеона и перед которою преклонятся со временем тунгусы и калмыки:
Обиды не страшись, не требуй и венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Призывая к себе на помощь дикого тунгуса и друга степей калмыка, Пушкин поступает очень расчетливо и благоразумно, потому что легко может случиться, что более развитые племена Российской империи, именно финн и гордый (?) внук славян, в самом непродолжительном времени жестоко обманут честолюбивые и несбыточные надежды искусного версификатора, самовольно надевшего себе на голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права.
Любопытно заметить, что в основание своего нерукотворного памятника Пушкин кладет такие резоны, которые целиком заимствованы из осмеянного и оплеванного им миросозерцания тупой черни. Когда поэту приходится предъявлять свои права на бессмертие, тогда он поневоле принужден заговорить серьезным языком мыслящего реалиста; он признает над собою суд того народа, который прежде украшался обыкновенно эпитетом: «бессмысленный»; он заговаривает о добрых чувствах, тогда как прежде у него шла речь только о сладких звуках; наконец он даже произносит слово «полезен» и соглашается таким образом вступить в состязание с печными горшками.
Эти невольные уступки гордого поэта доказывают, очевидно, что утилитарные аксиомы заключают в себе естественную, обязательную силу даже для тех поверхностных умов, которые неспособны вывести из этих аксиом все основное направление собственной жизни и деятельности. Но, обнаруживая собою непоколебимую прочность утилитарных истин, вынужденные уступки эти, конечно, не могут принести ни малейшей пользы личному делу самого Пушкина. Это дело окончательно проиграно, и уступки, сделанные Пушкиным, дают мыслящим реалистам полное право осудить его безапелляционно во имя тех самых принципов, на которые он старается опереться и которые он, следовательно, признает истинными. «Я буду бессмертен,— говорит Пушкин,— потому что я пробуждал лирой добрые чувства».— «Позвольте, господин Пушкин,— скажут мыслящие реалисты,— какие же добрые чувства вы пробуждали? Привязанность к друзьям и товарищам детства? Но разве же эти чувства нуждаются в пробуждении? Разве есть на свете такие люди, которые были бы неспособны любить своих друзей? И разве эти каменные люди,— если только они существуют,— при звуках вашей лиры сделаются нежными и любвеобильными?— Любовь к красивым женщинам? Любовь к хорошему шампанскому? Презрение к полезному труду? Уважение к благородной праздности? Равнодушие к общественным интересам? Робость и неподвижность мысли во всех основных вопросах миросозерцания? Лучшее из всех этих добрых чувств, пробуждавшихся при звуках вашей лиры, есть, разумеется, любовь к красивым женщинам. В этом чувстве действительно нет ничего предосудительного, но, во-первых, можно заметить, что оно достаточно сильно само по себе, без всяких искусственных возбуждений; а во-вторых, должно сознаться, что учредители новейших петербургских танц-классов умеют пробуждать и воспитывать это чувство несравненно успешнее, чем звуки вашей лиры. Что же касается до всех остальных добрых чувств, то было бы несравненно лучше, если бы вы их совсем не пробуждали».— «Я буду бессмертен,— говорит далее Пушкин,— потому что я был полезен».— «Чем?» спросят реалисты, и на этот вопрос не воспоследует ниоткуда никакого ответа.— «Я буду бессмертен,— говорит, наконец, Пушкин,— потому что я призывал милость к падшим».— «Господин Пушкин!— скажут реалисты,— мы советуем вам обратиться с этим аргументом к тунгусам и к калмыкам. Эти дети природы и друзья степей быть может поверят вам на-слово и поймут именно в этом филантропическом смысле ваши воинственные стихотворения, писанные не во время войны, а после победы. Что же касается до гордого внука Славян и до Финна, то эти люди уже слишком испорчены европейской цивилизацией), чтобы принимать воинственные восклицания за проявление кротости и человеколюбия».
X.
Я полагаю, что я могу теперь проститься с Пушкиным, и что эта вторая статья (разбор лирики) имеет полное право сделаться последнею. Принимаясь за эту работу, я вовсе не имел намерения представить читателям полный и подробный разбор всех лирических, эпических и драматических произведений Пушкина. Предпринять такой объемистый и утомительный труд в настоящее время значило бы придавать вопросу о Пушкине слишком важное значение,— такое значение, которого он уже не может иметь в 1865 году.— Приступая к этой работе, я хотел только высказать громко и открыто и подкрепить фактическими доказательствами то мнение, которое уже многие мыслящие люди составили себе о Пушкине и о всех поэтах и художниках его школы.
Теперь это дело сделано; в так называемом великом поэте я показал моим читателям легкомысленного версификатора, опутанного мелкими предрассудками, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века.
Если, паче чаяния, наши литературные противники представят мне какие-нибудь дельные возражения, то я возвращусь к вопросу о Пушкине и разберу эти возражения подробно и обстоятельно. Если же — в чем я почти не сомневаюсь — обожатели Пушкина ответят мне только скромным молчанием или бессильными воплями комического негодования, то читающая публика увидит ясно, без всяких дальнейших толкований, полную ветхость того кумира, пред которым, по старой привычке и по обязанности службы, преклоняется до сих пор все наше пишущее филистерство.
Дмитрий Писарев
1865 г. Июнь
Статья «Пушкин и Белинский» впервые напечатана в журнале «Русское слово», 1865 г., апрель и июнь. В журнале она разделена на две статьи с такими названиями: первая статья имела заголовок — «Евгений Онегин», вторая — «Лирика Пушкина».
[1] Кюхельбекер. ↩
Д. И. Писарев. Литературно-критические статьи. Избранные. Вступительная статья, комментарии, примечания и редакция Н. Ф. Бельчикова. Государственное издательство «Художественная литература», М., 1940