О поэме Анны Ахматовой «У самого моря»
 И. К. Айвазовский. Корабль у побережья. 1872
И. К. Айвазовский. Корабль у побережья. 1872
Мысленно перебирая стихи русских поэтов, посвященные Пасхе, вспомнила о поэме Анны Ахматовой «У самого моря». Во многом эта поэма, написанная в 1914 году, перекликается с феерией Александра Грина «Алые паруса», опубликованной в 1923-м. Вполне возможно, что Грин читал эту поэму и она повлияла на его замысел. У этих произведений схожи не только сюжеты и образы главных героинь: оба автора большое внимание уделяют теме искусства — во многом именно его воздействие на героев определяет их внутренний облик и судьбу. Но если у произведения Грина конец «счастливый» — Ассоль, пребывавшая в плену розовых, литературных грез, дождалась своего героя и вместе с ним растворилась в мечте, то у Ахматовой финал «трагический»… но только на первый взгляд. Горе героини поэмы, ставшей свидетельницей (и, скорее всего, виновницей) гибели жениха, пронизывают лучи Пасхальной радости, обетования вечной жизни. Перелистаем поэму Ахматовой: она менее известна, чем повесть Грина, но, как мне кажется, заслуживает гораздо большего внимания — по крайней мере, для христианина.
Поэма написана от первого лица. Её главная героиня, как и Ассоль, совсем юная девушка, которая, хотя и ведет себя в начале истории совершенно по-мальчишески, верит в то, что станет царицей. Своим женихом она хочет видеть только царевича, о чем и говорит влюбленному в неё «сероглазому мальчику» — именно его она позже будет ждать как жениха и царевича. Однако ребячество соседствует в ней с искренней верой: она бывает в монастыре и в Храме, а по вечерам молится «темной иконке» — сначала о том, «чтоб град не побил черешен, // чтоб крупная рыба ловилась // и чтобы хитрый бродяга // не заметил желтого платья», позже — о своем грядущем «царствовании»: «Боже, мы мудро царствовать будем, // строить над морем большие церкви // и маяки высокие строить. // Будем беречь мы воду и землю, // мы никого обижать не станем».
Особенного внимания заслуживает сестра героини, у которой, единственной во всей поэме, есть имя — Лена:
И так друг на друга похожи,
Что маленьких нас различала
Только по родинкам наша мама.
С детства сестра ходить не умела,
Как восковая кукла лежала;
Ни на кого она не сердилась
И вышивала плащаницу,
Бредила даже во сне работой;
Слышала я, как она шептала:
«Плащ Богородицы будет синим…
Боже, апостолу Иоанну
Жемчужин для слез достать мне негде…»
Однако теме веры и служения Богу через искусство в поэме противопоставлена тема суеверия и творчества, вдохновленного «музой», а не Творцом. Скорую встречу с женихом героине предсказывает цыганка:
Скоро веселой, богатой станешь.
Знатного гостя жди до Пасхи,
Знатному гостю кланяться будешь;
Ни красотой твоей, ни любовью, —
Песней одною гостя приманишь».
Я отдала цыганке цепочку
И золотой крестильный крестик.
Думала радостно: «Вот он, милый,
Первую весть о себе мне подал».
После встречи с цыганкой героиня пытается найти песню, которая «приманит» царевича. И, хотя поначалу она не думает, что сочинит песню сама, эти поиски вполне можно назвать муками творчества:
Все мои бухты и пещеры;
Я в камыше гадюк не пугала,
Крабов на ужин не приносила…
Как журавли курлыкают в небе,
Как беспокойно трещат цикады,
Как о печали поет солдатка,
Все я запомнила чутким слухом,
Да только песни такой не знала,
Чтобы царевич со мной остался…
И тогда на помощь героине приходит таинственная девушка:
В узких браслетах, в коротком платье,
С дудочкой белой в руках прохладных.
Сядет, спокойная, долго смотрит,
И о печали моей не спросит,
И о печали своей не скажет,
Только плечо мое нежно гладит…
Тот, кто немного знаком с творчеством Ахматовой, конечно, легко узнает в этой девушке музу, которую Анна Андреевна вслед за Пушкиным и многими другими поэтами считала покровительницей своего творчества. В стихотворении «Муза», написанном в 1924 году, мы видим тот же самый образ девушки с дудочкой в руке:
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
«Надиктовала» муза песню и героине поэмы «У самого моря» (хотя та и сказала сестре, что придумала песню сама). С этой песней, «лучше которой нет на свете», в День Святого Христова Воскресения девушка отправляется на берег моря:
К черным, разломанным, острым скалам,
Пеной покрытым в часы прибоя,
И повторяла новую песню.
Знала я: с кем бы царевич ни был,
Слышит он голос мой, смутившись, —
И оттого мне каждое слово,
Как Божий подарок, было мило.
Первая яхта не шла — летела,
И догоняла ее вторая,
А остальные едва виднелись…
Почему яхта, на которой плыл царевич, разбилась о прибрежные камни? Может быть, потому, что летела на звуки песни, которую сочинила героиня, променявшая нательный крест на ожидание земного счастья, послушавшая цыганку и «девушку с дудочкой белой в руках прохладных»? Может быть, природа этой песни была та же, что и у песен сирен — полудевушек, полуптиц, которые заманивали плывущих путников прекрасным пением и те, забыв обо всём на свете, погибали вместе с кораблями? («Песней одною гостя приманишь» — сказала цыганка героине Ахматовой.) Согласно древнегреческой мифологии, однажды сирены вступили в соревнование с музами по пению. Музы победили, ощипали перья сирен и сделали из них венки, которыми украсили свои головы. Вот и в поэме «У самого моря», в строфе, описывающей гибель царевича, возникает образ птицы — возможно, он тоже связан с темой полудевы-полуптицы, которая приносит гибель заслушавшимся мореплавателям:
Пальцы кусала, чтобы очнуться:
Смуглый и ласковый мой царевич
Тихо лежал и глядел на небо.
Эти глаза, зеленее моря
И кипарисов наших темнее, —
Видела я, как они погасли…
Лучше бы мне родиться слепою.
Он застонал и невнятно крикнул:
«Ласточка, ласточка, как мне больно!»
Верно, я птицей ему показалась.
Исследователи считают, что прототип (или один из прототипов) царевича — это Николай Гумилёв, муж Анны Ахматовой. Гумилёв также знал о том, что искусство может обладать разрушительной, губительной силой — в 1907 году он написал стихотворение «Волшебная скрипка», где предрек гибель тому, кто увлечется самозабвенной «игрой». Но героиня Ахматовой, став причиной гибели царевича, не гибнет сама: в финале поэмы она возвращается домой, где оставила Библию и чётки, где горит в лампаде «высокий, узкий малиновый огонечек» и слезно молится её болящая сестра. Самые последние строки поэмы звучат не скорбно, а торжествующе:
«Христос воскресе из мертвых», —
И несказанным светом сияла
Круглая церковь.
Христос Воскресе из мертвых — вот песнь не от мiра сего, которая не приманивает, не заманивает, а возносит на Небеса и обещает иного Жениха, иную Радость, которой никто никогда не отнимет у нас.
Ольга Надпорожская
Сайт «Ветрово»
3 мая 2019
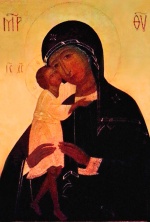


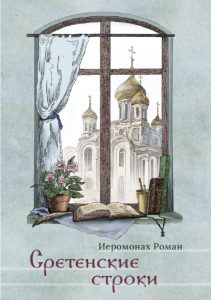
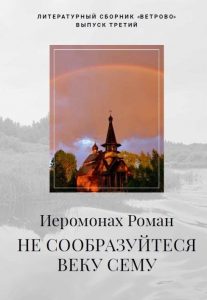
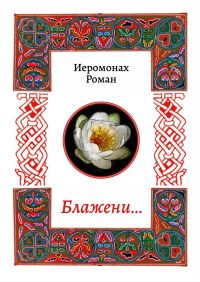
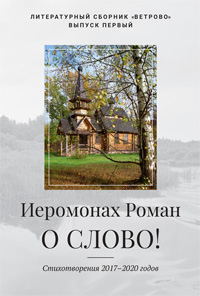

Смысл человеческой жизни выражается в заключительных последних трёх строках этой статьи.
Христос Воскресе из мертвых — и радости Пасхальной нет конца
ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ
Ты есть! И это всё! Я счастлив этим!
Исполнилась Тобой душа моя!
Есть Правда и Любовь на белом свете
И велий Смысл земного бытия!
Ты есть! И это так! И Ты — со мною!
И жалок зложелатель за спиной:
Что может быть худого под луною,
Когда Твоя Десница над луной?
иеромонах Роман
30 мая 2002
Минск