 Герхард Терстеген
Герхард Терстеген
Основной мотив гностицизма – «истинное христианство», то есть обретение подлинного религиозного знания, которое было потеряно на путях «христианства исторического» (совокупности духовного опыта канонической Церкви) и к «восстановлению» («возрождению») которого гностик призван «самим ходом» мировой истории, восходящим потоком «живой жизни». «Истинная суть христианства» – вот главная забота «духовного человека», его «единое на потребу», «альфа и омега» его попечений, его беззаветного служения «развитию человечества».
«Просвещение народа — это, господа, наше право и наша обязанность, право это в высшем христианском смысле: кто знает доброе, кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан сообщить его незнающему, блуждающему во тьме брату своему, так по Евангелию» (Достоевский Ф. Дневник писателя. 1877, янв., гл.1,III / Д.,XXV,16).
Как всякий потомок «ветхого Адама», гностик обладает исключительной способностью ведения «добра и зла», безошибочно распознавая истинное и ложное, чутко разделяя их природным камертоном своего сердца и ума… Так, по крайней мере, ему кажется, такова неодолимая сила его внутреннего ощущения… Рефлексия безмерной высоты этой миссии (поднятого гностического «креста») – неиссякаемый источник мистического вдохновения, творческого «экстаза» гностика длиною в жизнь. Каббалистическое «слияние с абсолютом» и масонское «строительство собственного внутреннего Я», реформаторский пиетизм и французский квиетизм, «метафизика нравственности» немецкого классического идеализма и почвенническая (славянофильская) «нравственная самообработка» – вот только некоторые формы реализации этой сверхзадачи.
«До сих пор мы рассматривали Бога только как самооткрывающееся существо. Однако как же он относится к этому откровению в качестве нравственного существа? <…> И как Бог в качестве нравственного существа относится ко злу, возможность и действительность которого зависят от самооткровения Бога?» (Шеллинг Ф. Философское исследование о сущности человеческой свободы и связанных с этим предметах / Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2-х томах. М., «Мысль», 1989. Т.2. С.139).
«Божие слово явилось как существо нравственное по преимуществу, как единственное нравственное существо» (Хомяков А. Несколько слов Православного Христианина о западных вероисповеданиях по поводу одного послания парижского архиепископа / Полн. собр. соч. Алексея Степановича Хомякова. М., 1886. Т.2. С.121-122)
«…единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, — есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская» (Достоевский Ф. Дневник писателя. 1877, фев., гл.2,III / Д.,XXV,60).
Это пелагианское сведение Христианства к нравственности, отождествление евангельского учения и «нравственного совершенствования», есть один из основных догматов нового гностицизма, его сокровенных формул, его навязчивых идей. Если Бог есть «существо нравственное», то и нравственный человек есть существо божественное. «Нравственное» в новой религии это суррогат «духовного» в Христианстве, а именно, должное отношение к «закону природы», общему для Бога и человека. Становление человека «нравственным» на путях исторического развития является завершением «самопознания Абсолюта»… Так нравственные «максимы» («сознание долга», «категорический императив») философии всеединства подменяли собой христианский императив исполнения заповедей Божиих (что выражалось, в том числе, в прямой полемике со «схоластическим юридизмом», что породит целое направление богословского модернизма).
«…под православием разумею я сам для себя просто известное, стихийно-историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства <…> Что это начало, на почве славянства, и преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата — должно обновить мир — вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием — перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны» (Григорьев А. Письма. М., «Наука», 1999. С.217-218).
Поскольку в основе этого нового («усовершенствованного») «христианства» во многом лежало каббалистическое неверие в Бога, открывшего Себя в Христианстве, где это неверие сублимировалось в религиозный «гносис» (как более чем веру), одним из логических исходов такой манипуляции стал квазирелигиозный атеизм, в частности, антропотеизм Фейербаха как следующая историческая форма «сущности христианства» в его одноименной книге (Das Wesen des Christentums, 1841), или как промежуточное звено между гегельянством (сублимированным атеизмом) и марксизмом (воинственным атеизмом).
«Итак, я имел преступную дерзость вызвать на свет из мрака прошлого истинное христианство, от которого отреклись современные мнимые христиане. <…> В первой части я доказываю, что истинный смысл теологии есть антропология, что между определениями божественной и человеческой сущности, следовательно, между божественным и человеческим субъектом или существом нет различия, что они тождественны <…> А во второй части я утверждаю, что хотя не непосредственно в самой религии, но в рефлексии ее сын божий считается сыном не в естественном, человеческом, а в совершенно ином, противоречащем природе и разуму, следовательно, в нелепом и непонятном смысле, и нахожу в этом отрицании человеческого смысла и ума противоречие истине, отрицательный момент религии» (Фейербах Л. Сущность христианства. Предисловие ко второму изданию / Фейербах Л. Соч. в 2-х томах. М., «Наука», 1995. Т.2. С.10, 16).
Поэтому пафосное анонсирование «истинного христианства» и в предыдущих (более умеренных, или скрытых, «нравственных») формах нового гностицизма было верным признаком религиозной лжи, или необходимой (на этой исторической стадии вероотступничества и богоборчества) прелюдией к ней.
«Надо же понимать хоть сколько-нибудь христианство! <…> А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе всё, все стремления, все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские идеалы»; [и тогда] «явились бы совсем новые люди, совсем в новых между собою отношениях, прежде неслыханных. Да и дело-то совершилось бы неслыханное: явились бы повсеместно совершенные христиане, которых и в единицах-то прежде было так мало, что и разглядеть трудно было» (Достоевский Ф. Дневник писателя. 1880, авг., гл.3,III / Д.,XXVI, 163-164).
И вот с этой осужденной на Вселенских соборах ересью носится «высоконравственный» и «глубоко-религиозный» человек, как с писаной торбой, потому что «и ныне есть еще пророки, хотя упали алтари…» (Н. Гумилев. 1903-1905). И кто же из представителей «творческой интеллигенции» того времени (как и всякого другого), не ощущал себя одним из числа этих «и ныне имеющих место быть пророков», несмотря на то, что «церковь как бы в параличе, и это уже давно» (Достоевский Ф. Записи литературно-критического и публицистического характера из записной тетради 1880-1881 гг. / Д.,XXVII, 65).
Следующий исход, или историческая форма русского всеединства как «истинного христианства» – это оккультные доктрины Блаватской и Рерихов. «Истина» в их теософии является уже просто словом-паразитом. В «Агни-йоге» слова с этим корнем употребляются 1750 раз (или несколько раз на каждой странице), выражая таким образом демоническую степень лживости этого учения.
«…Христа не следует искать ни в пустыне, ни «в потаенных комнатах», ни в святилищах какого-либо храма или церкви, построенной человеком; ибо Христос — истинный эзотерический СПАСИТЕЛЬ — это не человек, но БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП в каждом человеческом существе. Тот, кто стремится к пробуждению духа, распятого в нем его собственными мирскими страстями и лежащего в глубине «гробницы» его греховной плоти, кто обладает силой откатить камень материи от дверей своего собственного внутреннего святилища, тот имеет в себе воскресшего Христа. «Сын Человеческий» не есть сын земной рабыни — плоти, но поистине сын свободной женщины — духа, дитя собственных деяний человека и плод его духовных усилий» (Блаватская Е. Эзотерический характер евангелий / Блаватская Е.П. Происхождение Начал, М., «Сфера», 2006. С.152).
«Теософия рассматривает человечество как эманацию божественности, находящуюся на пути возвращения к своему истоку. <…> Многие интересуются нашим учением и интуитивно чувствуют, что оно более истинно, чем любая из догматических религий. Другие же твёрдо решили достичь высшего идеала человеческого долга» (Блаватская Е. Ключ к теософии. Гл.XI, «Кто они – Знающие?». Цит. по изд.: Блаватская Е. Ключ к теософии. М., «АСТ», 2004).
Самый широкий тираж этого «христианства», «истинного» в квадрате (потому что словосочетание «истинная суть», строго говоря, является тавлологией, означая «истинную истину», или «суть сути»), так вот массовый характер этого явления в области светского (то есть профанного) религиозного сознания, или того, что с подачи масонов, называется «культурой» (еще один благозвучный эвфемизм нового гностицизма) создают условия для проникновения этого феномена в область богословия, то есть, для переживания лжехристианства нового гностицизма, рефлексией его как «истинного христианства» людьми не просто церковными, но имеющими священный сан, богословское образование и даже научные степени. В чем, собственно, и заключается основной механизм богословского модернизма, то есть, в рецепции представителями богословской науки «духа лестчего» неоязыческой религиозной философии Нового времени. Что с такой наглядностью выразилось в становлении и «нравственного монизма» Храповицкого и Страгородского (с их умилениями богословской самодеятельностью почвенников и славянофилов); и «неопатристического синтеза» Флоровского и Мейендорфа (где это смешение патристики с новейшими достижениями ветхой метафизики заявлено в самом названии школы); не говоря уже об истории столичных «Религиозно-философских собраний (и обществ) имени Соловьева» как оранжереях софиологии и прочего «истинного гностицизма».
«Суть, корень, естество христианства в том, что оно не только насилия или еще чего-нибудь, большого или малого, — но решительно ничего не “отрицает”. Христианство начинается утверждением, совершается, исполняется, — посредством цепи новых, последовательных утверждений, — в волевом движении человечества, и завершается окончательным, т.е. абсолютным, утверждением. На великом Пути человечества во времени (он и есть — история, его и включает в себя, как бы обнимает, христианство) — на этом пути нет никаких отрицаний» (Гиппиус. З. История в христианстве / Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах 1907–1917. М., «Русский путь», 2009. Т.3. С.34).
«Истинное освобождение личности совершится в наполнении ее жизни вселенским содержанием, и основной задачей грядущего исторического дня является религиозное принятие действительности. Принцип церкви должен быть выдвинут с новой силой на арену культурного мира, ибо действительность может быть принята только в свете всемирного Логоса — как церковь» (Василевский Г. Виновата ли германская культура? / Там же. С.144).
* * *
Очередным примером богословско-модернистской проповеди «истинной сути христианства» явилась серия переводов игум. Петра (Мещеринова) сочинений немецкого теолога-пиетиста Герхарда Терстегена на «Богослов.ру», впервые знакомящих отечественного читателя с его трудами, что, само по себе, нельзя было бы не приветствовать как научную работу, если бы не характер откровенной популяризации, которыми все это сопровождается. Публикации не просто лишены серьезного критического комментария с ортодоксальных позиций, но автором (и редакцией) прямо заявляется душеполезность представленных текстов инославного представителя «истинной сути христианства», их не только равночестность святоотеческим трудам, но и некоторые преимущества, «обогащение» опыта духовной жизни святых отцов.
«Пиетизм – возникшее в XVII веке внутри протестантизма движение, ставящее своей целью обращение людей от сухого догматизма и формальной церковности к внутренней духовной жизни во Христе. Пиетизм был весьма многообразным явлением. Лютеранский пиетизм (имеющий своим источником знаменитую книгу Арндта “Об истинном христианстве”)…» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
Снова и снова слышим мы все тот же набор штампов нового гностицизма, кочующий из каббалы – в масонство, из гуманизма – в протестантизм, из теософии – в философию всеединства, из романтизма – в славянофильство и почвенничество («русский народный» пиетизм), и наконец, в «нравственный монизм» и «неопатристический синтез» (богословский пиетизм) с тем же самым противопоставлением «сухого догматизма» («схоластики») и романтического солипсизма, «формальной церковности» и внутреннего «космоса» «духовно пробудившегося человека», чревовещающего об «истинном христианстве» (или, попросту, складывающего классические ереси в новых сочетаниях и пропорциях).
«Реформатский пиетизм имел другие источники (английский пуританизм, голландское движение “Nadere Reformation” и французский квиетизм), и ему с самого начала был свойственен больший радикализм, чем пиетизму лютеранскому. Это проявлялось как в особом акценте на индивидуалистическом мистическом соединении с Богом (что могло приводить к религиозному субъективизму), так и в сепаратизме, в который легко проникали нецерковные воззрения (хилиазм, софиология и тому подобное)» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
«Соединение с Богом», которое «могло приводить к хилиазму, софиологии и тому подобному»… или ни к чему иному не могло не приводить, потому что «Дух Разума дает поучение искателям Истины. Достаточно знать путь Духа Разумения, остальное приложится» (Агни-йога. 1.061). Поэтому аналогичное «приложение» имело гностическое «соединение с Богом» и в отечественном богословском «пиетизме», где усиленная «внутренняя жизнь во Христе» приводила к тому же самому, потому что другой альтернативы «догматической сухости», кроме духовной экзальтации ереси не существует. Так же как не существует иной альтернативы святоотеческой духовной жизни, кроме «бесовской прелести» (что и называется в новом гностицизме «соединением с Богом»), впадение в которую неизбежно выражается в самых грубых искажениях вероучения (что, в свою очередь, и переживается как «истинное христианство»).
«Духовно пробуждённых людей не удовлетворяла внешняя церковность (представленная в Западной Европе после Вестфальского мира 1648 г. тремя деноминациями – Римо-Католической, Лютеранской и Реформатской): они стремились к интенсивной внутренней жизни в Боге, к христианской духовности, которая всецело пронизывала бы их жизнь и в которой бы они постоянно возрастали, – а официальные церкви предлагали им лишь отвлечённый догматизм, “стерильную ортодоксию” и формальное богослужение» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
То есть, лютеранство значительно повысило «интенсивность внутренней жизни в Боге», многократно увеличило «истинную суть христианства» в отношении католицизма (которое в свое время сделало то же самое в отношении Православия). Затем реформаты еще повысили градус этой «интенсивности», «истинности» и «живости» (антитезах догматической «формальности» и «схоластической мертвенности»). Но и этого «духовно пробужденному человеку» было мало – такая духовная жажда его томила. На почве чего и явился пиетический сепаратизм как дальнейший распад уже внутри лютеранства и реформаторства. Одним из таких сектархов пиетизма и выступил Терстеген (то есть, как лютеранский Кочетков).
«Пуританизм и пиетизм дали импульс так называемому Великому духовному пробуждению, имевшему место в первой половине XVIII века во многих местах Европы и Северной Америки. Массы людей каялись и обращались ко Христу» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
Аналогичным образом в России эпоха массового увлечения каббалистическо-масонским мистицизмом, эпоха славянофильства и почвенничества (немецкого всеединства на русской почве), «дали импульс великому духовному пробуждению» эпохи декаданса, «нового религиозного сознания», теософии и агни-йоги.
При этом, конечно, в пиетизме Терстегена вся эта духовная «прелесть» была выражена еще в меньшей степени (в отношении гностического радикализма теософии) и не всегда заметна невооруженным глазом. Многое в его сочинениях и впрямь совпадает с восточной патристикой. И что с того? Возьмите сочинение Пелагия или любого другого «классического» ересиарха, – там 90 (и более) процентов сказанного будет совпадать с догматическим учением Церкви. Собственно говоря, представленное письмо Терстегена некой особе, которую тот берется наставлять в «истинной сути христианства», это и есть не что иное, как богословский аналог «Письма к Деметриде» – одного из немногих сохранившихся сочинений пелагианской богословской школы. Но даже эти незначительные, на поверхностной взгляд, отличия Святая Церковь сочла неприемлемыми для себя, то есть, приводящими к самым серьезным последствиям в том числе и в духовной жизни христианина (а не просто ошибочными формулировками).
В частности, та разность в богословском письме Терстегена с восточной Традицией (что делает его чуждым ей по духу) это «манера подачи материала», где от вполне ортодоксальных положений христианской веры и аскезы, Терстеген как-то быстро переходит к назиданию своей послушницы от Лица Самого Господа Иисуса Христа.
«Внимай движениям Моего Духа внутри себя, и как Я убеждаю, вразумляю и влеку тебя, так и следуй за Мною в простоте, не заботясь ни о чём (Фил. 4, 6). Я Сам прошёл этот путь самоотвержения и креста; и тебя Я безошибочно проведу по нему. Я знаю лучше всего, что тебе полезно – только постоянно держись за Меня, не своди с Меня глаз; и как Я предшествовал тебе, и не перестаю предшествовать внутренне и внешне, так следуй за Мною – молясь при этом непрестанно о вере, простоте и верности» (Терстеген Г. Духовные и назидательные письма о внутренней жизни и истинной сути христианства». Письмо первое).
Здесь мы видим не просто риторический прием, аналоги которому при желании можно найти и в святоотеческих текстах, но нечто большее, а именно, принципиально иное самосознание богословствующего субъекта, его «предстояние» перед Богом в позе все того же ново-гностического «мессианизма». Поэтому если в одних отношениях в сочинениях Терстегена присутствует сходство со святоотеческой аскетикой, то в других – с «Анти-йогой».
«Именем Христа совершались великие преступления, потому ныне Христос облекается в иные одежды. Надо очистить все приукрашенное. <…> Мы не знаем границ возможностей завоеваний духа. <…> Есть мысли, обращенные внутрь и поглощенные потенциалом духа. <…> Можно построить город, можно дать лучшее знание, но труднее всего отмыть истинное изображение Христа. <…> Руками человеческими должен сложиться Храм» (Агни-йога. 2.2.5.2-4).
Эти же идеологемы (и даже лексикон) являются движущей силой пиетизма вообще и духовных опытов Терстегена, в частности.
«Первая переведённая и изданная им книга (1726 г.) – “Руководство к истинному благочестию” Жана де Лабади. К своему переводу Терстеген написал обширное содержательное предисловие, которое затем вошло в книгу “Путь истины”. <…> большинство пиетистов (в их числе и Терстеген) разделяли историческую концепцию Готфрида Арнольда, согласно которой Церковь проводила подлинную христианскую жизнь только в первые три века своего существования, а со времени Миланского эдикта произошло её духовное падение» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
Особую магию публикации перевода Терстегена придают (или должны придавать, по замыслу переводчика) иллюстрации страниц текста оригинального издания, где барочный шрифт подлинника как бы наглядным образом демонстрирует преимущества «истинного христианства» перед «поврежденным христианством» византийского типа, не столь изысканного ни в вязи линий, ни, собственно, в «истинах» Христианства как такового.
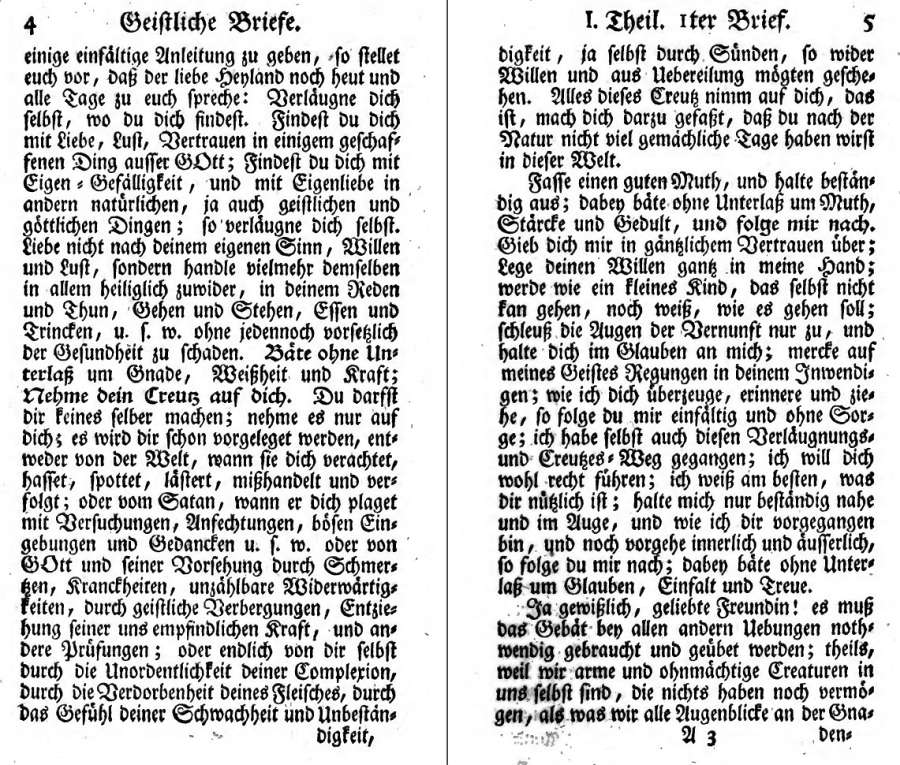
«Разъясню в немногих и простых словах, в чём заключается эта молитва, которую Господь Иисус, наш Предшественник, вкупе со всеми Своими последователями так любил и к которой так часто прибегал (Лк. 6:12). Обще говоря, я понимаю сию молитву как внутреннейшее, теснейшее и ближайшее сообращение с Богом – когда мы веруем и познаём Бога как везде присутствующего, и особенно присутствующего в нас, и к Нему, как к соприсутствующему нам, часто (а по возможности – непрестанно) обращаем с благоговением и любовью наш ум и сердце; когда мы, внутренне простираясь пред Ним духом, поклоняемся Ему и прославляем Его; когда мы всецело предаём себя Ему в вечную собственность; когда мы с любовью сокровенно припадаем к Нему и ведём с Ним, как с сердечнейшим нашим Другом, искренний разговор, – чему всему научает нас вера и любовь» (Терстеген Г. Духовные и назидательные письма о внутренней жизни и истинной сути христианства». Письмо первое).
В этом типично гностическом панибратстве с Богом как со своим Другом и Предшественником и заключается ответ на вопрос, каким образом становится возможным неуловимый переход у Терстегена (от многих, действительно, ортодоксальных истин его сочинения) к невозможному в Православии мифическому монологу Христа-Бога, открывающему даже какие-то моменты Его божественной «психологии» (по причине ее подобия человеческой психологии).
«Конечно, при такой духовной практике, требующей большой осторожности, были необходимы трезвые и опытные наставники (духовное окормление в квиетизме почти идентично духовничеству и старчеству в православии). Этого не могло предложить протестантское пастырство (а в Римо-Католической Церкви квиетизм к тому времени был осуждён), и наставничество ложилось на плечи духовно одарённых мирян» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
То есть, по принципу, когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Однако все эти параллели с Православием, как было сказано, приводятся игум. Петром, всерьез: между духовными исканиями протестантского пиетизма и тысячелетним опытом канонической Церкви он не делает никакой принципиальной разницы.
Хотя из приводимого им «жития» Терстегена невооруженным глазом видны типичные ошибки его подвязания, несоразмерные своим силам аскетические подвиги и т.п. Слишком «поверив в себя» в духовном плане,
«он поселился один и стал проводить весьма строгую жизнь. Уединённая работа, молитва, чтение Священного Писания и духовных книг сопровождались крайним аскетизмом. Ел он один раз в день самую скудную пищу (чаще всего это была мука, разведённая в воде, и стакан молока), а почти все деньги от продажи своих лент раздавал бедным. Из-за слабого здоровья (Терстеген всю жизнь страдал частыми и сильными головными болями) он нередко по целым неделям вынужден был лежать в постели, и тогда источник его дохода и вовсе иссякал, так что порой он доходил буквально до порога нищеты» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
Неудивительно, что при таком «истинно-христианском» самоистязании первый порыв веры Терстегена перешёл в ее многолетний кризис, где болезни духовные сопровождались физическими. Но затем, по убеждению жизнеописателя, наступает долгожданный период полного духовного выздоровления. Что органично (по мнению автора) выражается в написании Терстегеном письма Христу… собственной кровью.
«Тяжкий духовный кризис Терстегена закончился в 1724 году, когда во время поездки в соседний город его сердце просветилось Божиим светом и совершенно успокоилось. После этого 13 апреля, в Великий Четверг, Терстеген написал собственной кровью весьма примечательный документ. Вот его текст: “Моему Иисусу. Тебе, моему единственному Спасителю и Жениху Иисусу Христу, я предаю себя в полную и вечную собственность. С этого вечера, в который Ты, жених крови и прибежище моё, Своею смертною скорбью и бореньем до кровавого пота в Гефсиманском саду выкупил меня, как невесту, Себе в собственность, разрушил врата ада и отверз мне любвеобильное сердце Твоего Отца, – я всем своим существом отрекаюсь от всяких прав и всяческой власти над собою, какие только мог бы мне беззаконно дать сатана…» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание).
Отдавая должное искренности веры Терстегена и даже допуская богоугодности и таких ее выражений (о чем мы, не настолько близко стоящие к Нему, судить не беремся), все же, исходя из духовного опыта святооотеческой литературы (единственного для нас мерила в подобных вопросах), характеризовать такой документ как свидетельство духовного выздоровления не только ни представляется возможным, но, скорее наоборот, говорить нужно о переходе болезни в какую-то новую стадию.
Разве эти кровопускания не то же самое, по сути, что «стигматы» Франциска Ассизского, то есть, атрибуты лжехристианской «святости», лишь в ином выражении («в его эпоху это явление было достаточно распространено в квиетистской среде, так что Терстеген здесь следовал традиции. Это было предельно серьёзное выражение того, что заключён своеобразный обет, принято решение всецело посвятить себя одному только Богу» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание))? И то, что эта духовная патология расценивается игум. Петром как «обогащение» святоотеческого опыта духовной жизни, говорит о том, что «истинное христианство» нового гностицизма, мягко говоря, не прошло для него бесследно, как и для других представителей богословского модернизма, утративших способность «различения духов».
«Чтобы не сообщаться с “явными грешниками”, Терстеген в церковь не ходил и к Таинству Вечери не приступал <...> такой отказ от причастия вместе с “грешниками” был вполне традиционен для реформатского пиетизма. <...> Терстеген следовал этому воззрению и обосновывал своё нехождение в церковь именно нежеланием причащаться с “неистинными христианами”. <...> земная церковь – падшая, в ней всё настолько перемешано, что подлинному христианину лучше соотноситься с ней минимальным образом» (игум. Петр (Мещеринов). Герхард Терстеген. Жизнеописание)
Оправдание, которое игум. Петр находит очередному пароксизму «истинного христианства» Терстегена, уже само выдержано в духе «истинного христианства», то есть построено на его основном доводе: «Было ли это церковным сепаратизмом? Формально да <…>. Но духовная жизнь Терстегена была гораздо глубже формальных определений» (там же), то есть, «морально выше», а значит, более «христианской», по сути.
Подобным образом Достоевский обосновывал религиозный титанизм Жорж Санд и ее героев, что стало главной отличительной чертой и его собственного типа главного героя (гностической «диалектики» Великого Грешника).
«Жорж Занд умерла деисткой, твердо веря в Бога и бессмертную жизнь свою, но об ней мало сказать этого: она сверх того была, может быть, и всех более христианкой из всех своих сверстников – французских писателей, хотя формально (как католичка) и не исповедовала Христа. Конечно, как француженка, сообразно с понятием своих соотечественников, Жорж Занд не могла сознательно исповедовать идеи, что «во всей вселенной нет имени, кроме Его, которым можно спастися», – главной идеи православия; но, несмотря на кажущееся и формальное противоречие, повторяю это, Жорж Занд была, может быть, одною из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою…» (Достоевский Ф. Дневник писателя. 1876, июнь, гл.1,II / Д.,XXIII,37).
«Прекрасные позднейшие произведения ее <…> Считали себя выше Христа. В героинях нет смирения, но есть жажда добродетельной жертвы, подвига <…> Тем и спаслась» (Достоевский Ф. Записная тетрадь 1876-1877 гг. / Д.,XXIV,220,223).
«От гордости и от безмерной надменности к людям он становится до всех кроток и милостив – именно потому что уже безмерно выше всех» (Житие великого грешника. Наброски и планы 1867-1870 гг. / Д.,IX,139).
Так же, как у западных пиетистов, гностическая борьба за «истинное христианство» выражается у игум. Петра (Мещеринова) не только в апологии теологического и духовно-практического изуверства Терстегена как аналогичного православной вере и духовной жизни, но и в прямых нападках на последнюю, то есть, предъявлении ей стандартного перечня претензий «истинного христианства». И по-другому не могло и быть, настолько две эти традиции духовно несовместимы и несопоставимы, ибо какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? (2 Кор. 6:15-16). Поэтому от параллелей с Православием, как было сказано, апологет пиетизма переходит уже к перечислению преимуществ последнего и недостатков Восточной Церкви.
«Наставления мистического характера о внутренней жизни можно найти у преп. Макария Великого, отчасти у свт. Феофана Затворника и у других древних и новых святых. Но если в творениях св. отцов это мистико-этическое учение чаще всего рассеяно в виде отдельных афоризмов, размышлений, указаний и тому подобного, то Терстеген излагает его внятно, системно и кратко. В этом заключается преимущество терстегеновских текстов перед безбрежным морем святоотеческой письменности».
«Терстеген специально строит своё изложение так, чтобы всё церковно-институциональное оказалось за скобками. Богослужение для него – это исключительно внутреннее делание христианина (для православных понятие «богослужения» чаще всего сводится к участию в храмовом действе). Терстеген решительным образом концентрирует всё своё внимание только на внутреннем богообщении, и ни о каких внешнецерковных действиях, как непременном условии для него, не упоминает. Напротив, свт. Феофан сущностной и обязательной стороной духовной жизни полагает не только Таинства, но и активное участие во внешнецерковных чинах: выстаивание служб, соблюдение дисциплинарных постов и прочих византийско-обрядовых установлений, совершение множества поклонов и так далее» (игум. Петр (Мещеринов). Терстеген и православие: «зачем это нужно»?)
Между тем, умаление сакраментальной стороны духовной жизни (то есть, участия в Таинствах Церкви) как основного источника подачи Божественной благодати у Терстегена есть не что иное, как атрибут классического пелагианства, лишь разновидностью которого выступает лютеранский пиетизм.
«На современного русского православного читателя весьма сильное влияние оказали (и отчасти продолжают оказывать) сочинения святителя Игнатия (Брянчанинова). Известно, что свт. Игнатий был решительным противником книги Фомы Кемпийского “О подражании Христу” и крайне резко критиковал её. А поскольку в силу некоторых обстоятельств (требующих отдельного рассмотрения) свт. Игнатий в советское и постсоветское время из всего лишь одного из духовных писателей XIX века превратился в какого-то “отца отцов”, чуть ли не олицетворяющего в своих сочинениях пресловутый consensus patrum, то его мнение для многих является некоей “конечной инстанцией” православия» (игум. Петр (Мещеринов). Терстеген и православие: «зачем это нужно»?).
Ошибка святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, по мнению игум. Петра (Мещеринова), заключалась в том, что они мало зная западно-христианскую традицию, сделали поспешный вывод о ней на основании самых грубых ее образцов, а вот, дескать, такие духовные писатели и подвижники благочестия, как Терстеген, это совсем другое дело, они и самим святителям еще могут дать фору по части «внутренней жизни в сладчайшем Иисусе», потому что первые кровью писем к Нему написать не удосужились («к сожалению, текстов Терстегена они не знали, поэтому судили о западной мистике весьма однобоко»). Но из самих же переводов игум. Петра и приведенных им сведений биографического характера («переводил он [Терстеген] и <…> известную книгу Фомы Кемпийского “О подражании Христу”, приспособив её для чтения протестантов»), то есть, самой презентабельной подачи подобного рода духовной литературы, еще более убеждаешься в правоте святителя Игнатия в его оценке западно-христианской «святости» как «прелести», или разновидности умопомешательства.
«Займитесь чтением Нового Завета и святых Отцов православной Церкви (отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая Церковь выдает за святых!); изучите в святых Отцах Православной Церкви, как правильно понимать Писание, какое жительство, какие мысли и чувствования приличествуют христианину. Из Писания и живой веры изучите Христа и христианство…» (свт. Игнатий (Брянчанинов). Собрание писем. М., 1995. С. 396).
Александр Буздалов
Сайт «История идей»
22 сентября 2020






Должен сказать, что в этой статье Вы взошли на новую высоту обобщения пребывающих за Церковной оградой лжеучений, уважаемый Александр Вячеславович, и как бы орлиным взором охватили всю их еретическую бездну. Некоторые Ваши перлы я с удовольствием и дважды, и трижды перечитал. Например, эти.
«Каббалистическое «слияние с абсолютом» и масонское «строительство собственного внутреннего Я», реформаторский пиетизм и французский квиетизм, «метафизика нравственности» немецкого классического идеализма и почвенническая (славянофильская) «нравственная самообработка» — вот только некоторые формы реализации этой сверхзадачи».
«Снова и снова слышим мы все тот же набор штампов нового гностицизма, кочующий из каббалы – в масонство, из гуманизма – в протестантизм, из теософии – в философию всеединства, из романтизма – в славянофильство и почвенничество («русский народный» пиетизм), и наконец, в «нравственный монизм» и «неопатристический синтез» (богословский пиетизм) с тем же самым противопоставлением «сухого догматизма» («схоластики») и романтического солипсизма, «формальной церковности» и внутреннего «космоса» «духовно пробудившегося человека», чревовещающего об «истинном христианстве» (или, попросту, складывающего классические ереси в новых сочетаниях и пропорциях).
А эти Ваши слова, где так называемая светская культура тоже внесена Вами в список гностических, каббалистических, масонских, протестантских, романтических ересей, я бы назвал прорывом в осмыслении этого явления как гностицизма внерелигиозного сознания.
«Самый широкий тираж этого «христианства», «истинного» в квадрате (потому что словосочетание «истинная суть», строго говоря, является тавТ(ОПЕЧАТКА)ологией, означая «истинную истину», или «суть сути»), так вот массовый характер этого явления в области светского (то есть профанного) религиозного сознания, или того, что с подачи масонов, называется «культурой» (еще один благозвучный эвфемизм нового гностицизма) создают условия для проникновения этого феномена в область богословия, то есть, для переживания лжехристианства нового гностицизма, рефлексией его как «истинного христианства» людьми не просто церковными, но имеющими священный сан, богословское образование и даже научные степени».
Совершенно неожиданно попался на глаза фрагмент частной переписки.
Корреспондент: Христианский взгляд на культуру гораздо убедительнее, чем попытка увидеть за ней масонский заговор. (Или разновидность гностической ереси, как это делает А. Буздалов в настоящей статье, называя культуру благозвучным эвфемизмом нового гностицизма, который (эвфемизм) ввели масоны. — Г.С.). Мне кажется, очень важно донести мысль о том, что светская культура — это душевность, сладкий и обманчивый плен, из которого очень трудно вырваться к духовному.
Адресат: А Вы не задумывались, почему из этого плена «очень трудно вырваться к духовному»? Только потому, что он сладок и обманчив? Если бы всё было так просто. Но этот плен не просто душевен, он — духовен. Этот плен имеет свою охрану, богослужение, культ, жрецов, которые содержат пленников в духовных мiрах. Этот плен — вечная духовная погибель, если душа не освободится из него.
Благодарю, о. Георгий, за Ваши комментарии.
Вы высказали свое мнение о Терстегене, не обременяя себя изучением его трудов, поэтому здесь будет уместно разместить хоть что-то из его наследия, тем более, что это «что-то» может оказаться полезным для Вас, Александр:
«Когда человек обращается к Богу, то он, повинуясь руководству совести, берётся за то, чтобы умереть греху и миру сему (Рим. 2:6; Кол. 2:20). Новоначальный христианин строг, ревностен и неутомим во внешнем. У него много сил, и он решительно движется вперёд, ибо властные побуждения благодати и страх Божий влекут его, и сладкое вкушение многих даров Божиих, чувствуемых и воспринимаемых им, как бы несут на себе душу, хотя кажется, что душа всё это делает сама и чрез себя.
Такой новоначальный христианин – часто подлинный герой по своим намерениям и делам. Но большой «шум», который отсюда происходит, и излишняя деятельность рассудочно-чувственных сил не дают душе по-настоящему ути́шиться и войти внутрь себя. Поэтому наше глубинное повреждение и падшесть большей частью остаются укоренёнными в сердце. Более того, самолюбие, беря повод от ревности, добродетелей и духовных даров, неприметно и тончайшим образом ещё усиливается, а своеволие проявляет себя в осуждении ближних и несострадании к ним, в жёсткости и закостенелости мнений, поступков и аскетических упражнений и, наконец, в постоянном само-напряжении, в упорной само-деятельности и неспособности предать себя Богу, даже в молитве.»