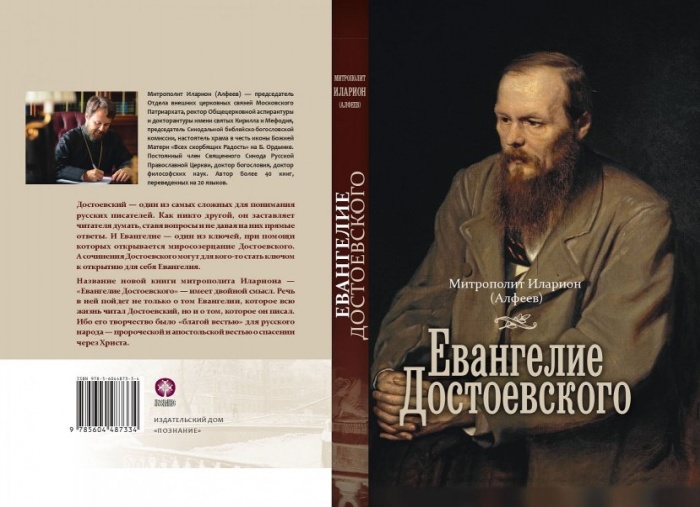
Как мы уже знаем, религиозное наследие Достоевского в настоящее время активно привлекается в РПЦ не только для внутренних миссионерских целей (а именно, для церковной агитации людей культуры примером светского писателя-апологета «евангельских ценностей»), но и для целей «православного экуменизма» как антиканонического «восстановления единства церквей» путем реабилитации классических ересей. Так, во время последнего визита главы ОВЦС МП митр. Илариона (Алфеева) в Ватикан имя Достоевского неоднократно звучало именно в этом контексте. В частности, сообщалось, что митр. Иларион «принял участие в конференции на тему “Святые – знамение и семя единства”, которая прошла в среду в Папском университете святого Фомы Аквинского» (В Ватикане прошла встреча Папы Римского и митрополита Илариона)». При этом, напомним, глава ОВЦС со своей стороны и привел творчество Достоевского как пример такого рода универсальной проповеди Христа, которая обращена к людям, независимо от их конфессиональной или вообще мировоззренческой ориентации, привлекая людей к «самой личности Христа», что, в свою очередь, и составляет тот догматический минимум, на котором основывается «единство веры» московских и римских экуменистов.
«Православные и католики объединены не только общим Преданием Церкви первого тысячелетия, но и миссией проповеди Евангелия Христова в современном мире» (Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла).
Иными словами, отечественных и ватиканских экуменистов объединяет не только и не столько общее Предание христианской древности, сколько новое «предание», потому что святые эпохи Вселенских соборов, по определению, не могут быть ни «знамением», ни «семенем» единства православных и еретиков, настолько чужда такая идея всему тому, что провозглашено на этих соборах этими святыми о единственном каноническом способе присоединения еретиков к Церкви. Зато собственные католические «святые», то есть, прославленные уже после «великой схизмы», вполне могут выступать в роли такого «семени». Либо – такие «проповедники» и «миссионеры» как Достоевский – со стороны «православного экуменизма».
«…ценность Достоевского для нас, [экуменических. – А.Б.] христиан, заключается в том, что в своих произведениях он постоянно пытается привести читателя ко Христу. <…> в лице Иисуса Христа он видел величайший нравственный пример для всего человечества. В своих романах Достоевский пытался приблизить читателя не просто к пониманию учения Христа, но к пониманию Его личности. И делал он это своим, только ему присущим, способом, создавая образы христоподобных героев, таких как князь Мышкин из романа “Идиот”…» (Митрополит Иларион: Открывать людям Христа – наша главнейшая миссионерская задача. Интервью председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона итальянской газете Corriere della sera).
Нам, в свою очередь, такая аналогия между католическими «святыми» и «христоподобным князем Мышкиным» тоже представляется весьма удачной и уместной как раз в контексте экуменического «единства», в качестве именно этого и никакого другого «знамения и семени».
Действительно, между специфичной латинской «святостью» и идеализмом героев Достоевского как заявленным «христоподобием» обнаруживается немало общего. Это, безусловно, один и тот же тип духовности и мистицизма, а именно, романтически экзальтированный, имеющий своей природой сублимацию страстей, а не божественную благодать, которая составляет единственное содержание ортодоксальной святости. В католицизме же этого теосиса (обожения) нет и не может быть в принципе (потому что благодать в томизме – это тварная сила), поэтому ее функционально заменяют здесь особого рода страсти души. Аналогичную генеалогию имеет и «христоподобие» Достоевского. Поэтому, конечно, князь Мышкин по своему духу гораздо ближе к Франциску Ассизскому, чем к кому бы то ни было из святых Восточной Церкви.
 Юрий Яковлев в роли князя Мышкина «в роли» Христа
Юрий Яковлев в роли князя Мышкина «в роли» Христа
Чего стоит только «христоподобная» падучая Мышкина – черта, совершенно невозможная в православной агиографии и, напротив, «органичная» в католических «святцах». Например, встречается этот элемент в жизнеописании Терезы Блаженной: «Трижды вступала в бергамский бенедиктинский монастырь S. Grata и снова уходила» [прямо как другой «христоподобный» герой Достоевского – Алеша Карамазов]. «В конце концов она тяжело заболела в этом монастыре эпилепсией. В 1831 г. она основала в Бергамо «Конгрегацию дочерей Св. Сердца Иисуса» (Suore Verzeri) для воспитания женской молодежи. Была высоко духовно одаренной, исполненной никогда не иссякающего желания жертвовать собой в любви к молодежи. При всех внешних осложнениях и внутренних душевных страданиях она обнаружила героическую силу души» (Католическая Россия: Энциклопедия. Католические святые. Тереза Eustochium Verzeri).
Поэтому неудивительно, что такой латинофил, как митр. Иларион, как говорится, так запал на Достоевского и его фирменное «христоподобие». И даже сам папа Франциск, как сообщалось, настоятельно рекомендует своему клиру чтение Достоевского для профессионального становления.
«Я говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником» (Путин рассказал о любимых писателях понтифика).
То есть, по принципу «подобное тянется к подобному».
«В романе “Идиот” Достоевский делает первую попытку приблизиться к личности Христа через образ христоподобного героя. Своей племяннице он пишет: “Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь… На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж, конечно, есть бесконечное чудо. Все Евангелие Иоанна – в этом смысле: он все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного”. Центральная фигура романа “Идиот” – князь Лев Николаевич Мышкин, потомок древнего дворянского рода, страдающий тяжелым недугом – эпилепсией. Этой болезнью страдал сам Достоевский. Но герой Достоевского был не просто эпилептиком. И в названии романа, и в его тексте за ним закреплено наименование “идиот”» (митр. Иларион (Алфеев). Достоевский и Евангелие).
Иными словами, эпилепсия и идиотизм Мышкина – это не «обыкновенные» (то есть, психиатрические) заболевания, но «духовные» феномены, приметы все того же «христоподобия», выражение неотмирности героя, его «юродства» как знаки огромного нравственного превосходства над простыми смертными. При этом собственная эпилепсия, разумеется, тоже переживалась Достоевским как печать избранничества. В частности, Достоевский любил приводить пример мусульманского пророка Мохаммеда (который, согласно одной из легенд, был отмечен этим «знамением») и других «великих развивателей человечества», страдавших эпилепсией как издержкой высшего напряжения духовной жизни человека.
«Вы все, здоровые люди <...> и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я» (Ковалевская С.В. Воспоминания и письма. Изд. АН СССР, М., 1961. С.106 / Д.,IX,442).
Что уже само по себе является примером экуменизма «высшего», а именно, трансрелигиозного, ранга, в сравнении с которым межконфессиональному «православному экуменизму», робко молящемуся с еретиками, еще есть, куда расти и к чему стремиться.
«Да, я болен падучею болезнью <...> Было много даже великих людей в падучей болезни, из них один [то есть, тот же Мохаммед. – А.Б.] даже полмира перевернул по-своему…» (Достоевский Ф. Записная тетрадь 1864-1865 гг. / Д.,XX,198).
Подобное «переворачивание мира по-своему» призван совершить и «великий русский народ» в почвенничестве и, в частности, такой его эпилептический «пророк», как Достоевский.
«Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной. Я утверждаю, что так было со всеми великими нациями мира, древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности, каждую, иметь, в свои сроки, огромное мировое влияние на судьбы человечества» (Достоевский Ф. Дневник писателя. 1877, январь, гл.2,I / Д.,XXV,17).
«…мы, русские, несем миру возобновление их утраченного идеала. <…> Представьте себе, что все Христы» (Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Д.,XI,177).
Поэтому и своего «второго Христа» Достоевский наделяет не только самим этим недугом, но и его «священной» этимологией. В частности, помимо лестных аллюзий на пророка Магомеда, в романе эпилепсия Мышкина иносказательно называется «виттовой пляской» («Идиот». Ч.1, гл.I / Д.,VIII,6), по имени святого IV в. Витта, который считался покровителем больных эпилепсией и различных форм судорог. То есть, в реальной жизни к этому святому обращались за молитвенной помощью при заболеваниях этого рода (и, наверняка, были случаи чудесного исцеления). Притом что сами эти заболевания не без оснований считались либо симптомами нападения бесовских сил либо признаками самой одержимости. Но поскольку религия Достоевского (почвенничество), как мы уже знаем, это христианство-наоборот, «православие» шиворот-навыворот, постольку то, что является признаком одержимости в Христианстве переживается здесь, напротив, как признак чего-то «божественного», «пророческого» избранничества, или «христоподобия», в частности.
«Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и “высшего бытия”, не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И, однако же, он все-таки дошел наконец до чрезвычайно парадоксального вывода: “Что же в том, что это болезнь? — решил он наконец. — Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?” <…> в самый последний сознательный момент пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательносказать себе: “Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!”, — то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни <…> в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что “времени больше не будет”. <…> Вероятно, это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы» (Идиот. Ч.2, гл.V / Д.,VIII,188-189).
Возвращаясь к католическому типу «святости», мы обнаруживаем здесь этот же тип патологии духовной жизни, который в Священном Предании Восточной Церкви традиционно обозначается как «бесовская прелесть». В частности, все жизнеописание того же Франциска Ассизского представляет собой вариацию описанного в «Идиоте» духовного опыта «превращения в Христа»», «восторженного слития с высшим синтезом жизни». Как Достоевский, согласно митр. Илариону, «пытался приблизить читателя не просто к пониманию учения Христа, но к пониманию Его личности. И делал он это своим, только ему присущим, способом, создавая образы христоподобных героев» (то есть, рефлексируя таким образом собственное героическое «христо-» и «магометоподобие»), так и «святой» Франциск всю свою жизнь старался приблизиться к Христу на рекордное расстояние полного уподобления и «слития». «Усиленное смирение не препятствовало Франциску последовательно осуществлять главное дело своей жизни: повторить земную жизнь и судьбу Христа. У него [Франциска] было двенадцать учеников, один из которых потом отошел и удавился, он посылал своих учеников по двое для проповеди в мир, превращал воду вино, путешествовал на осле, устроил в конце жизни последнюю вечерю, сделав ее во всем похожей на Тайную Вечерю. Однажды он выдержал сорокадневный пост лишь с двумя хлебцами, из которых съел лишь половинку – и то из смирения (!), чтобы не уподобиться окончательно Христу. В XIV веке один из его биографов, Бартоломео Пизанский, даже написал труд «О сходстве жизни блаженного Франциска с жизнью Господа нашего Иисуса Христа», насчитав 46 признаков такого сходства. Завершением чего стало получение им в конце жизни, после очередного видения на горе Вернии, стигматов. Франциска Ассизского называли «зеркалом Христа», а также вторым (или другим) Христом – alter Christus – «дарованным миру для спасения людей», а «Fioretti» именовались новым Евангелием, повествующим о нем. <…> Сам Франциск неоднократно называл себя греческим словом «idiota» (что наши переводчики передают как «неуч» или «невежда»)» (Степанян К. Достоевский и Франциск Ассизский).
 Микки Рурк в роли Франциска Ассизского «в роли» Христа
Микки Рурк в роли Франциска Ассизского «в роли» Христа
С этим же изуверским типом «подвижничества» мы имеем дело и в случае «христоподобия» у Достоевского вообще и в образе князя Мышкина, в частности. Суть здесь заключается в том же самом «необыкновенном смирении», гротескно сочетающемся с таким же необыкновенным тщеславием, будучи одержимым которым, «исповедник» берется «окончательно уподобиться Христу» и полностью в Него «преобразиться».
«Это слитие полного я, то есть знания и синтеза со всем. <…> Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа как в свой идеал» (Достоевский Ф. Записная книжка 1863-1864 гг. / Д.,XX, 174-175).
В общем, самое время было бы вызывать санитаров с особыми навыками, если бы, повторим, природа этой патологии находилась в психиатрической, а не в сугубо духовной плоскости. «Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, — по отпадении ее от Восточной Церкви и по отступлении Святого Духа от нее — молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым мною способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Прелесть уже естественно воздвигается на основании богохульства, которым у еретиков извращена догматическая вера. Поведение подвижников латинства, объятых прелестию, было всегда исступленное по причине необыкновенного вещественного, страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель Иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некоторое напряжение, как являлись пред его взорами, по его желанию, ад или рай. Явление рая и ада совершалось не одним действием воображения человеческого; одно действие воображения человеческого недостаточно для этого: явление совершалось действием демонов, присоединявших свое обильное действие к недостаточному действию человеческому, совокуплявших действие с действием; пополнявших действие действием на основании свободного произволения человеческого, избравшего и усвоившего себе ложное направление» (свт. Игнатий (Брянчанинов). О прелести / Собр. втор. святителя Игнатия Брянчанинова. М., «Паломник», 2014. Т.1. С.226-227).
Вот и Достоевский со свойственным ему францисканским «смирением» рассказывал рядовым Оптинским монахам о пережитом им экстрасенсорном видении «рая» (то есть, в продолжении все той же вечной «секунды» перед эпилептическим припадком).
«Да я видел рай… Ах, как там хорошо, как светло и радостно! И насельники его так прекрасны, так полны любви. Они встретили меня с необычайной лаской. Не могу я забыть того, что пережил там, – и с тех пор повернул к Богу!» (Беседы Схиархимандрита Оптинского скита Варсонофия с духовными детьми. СПб., 1991. С. 36).
В последствие, по законам жанра, Достоевский наделил этим эксклюзивным свойством «великого человека» (экстрасенсорной способностью «прозревать рай») очередного своего «христоподобного» героя.
«Я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. <…> Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. <…> Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. “Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. — “Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой”, — отвечало мне существо, уносившее меня”» (Достоевский Ф.М. Сон смешного человека / Дневник писателя. 1877, апрель, гл.II / Д., XXV, 110-111).
И вот все это отборное «христоподобие» митр. Иларион теперь приносит на алтарь экуменического «единства веры» – и совершенно правильно делает. Мы такие «инициативы ОВЦС» всячески поддерживаем и обеими руками за них голосуем. Потому что нигде и никогда «православная» экстрасенсорика Достоевского еще не выглядела столь органично и не оказывалась столь уместной, как на «конференции на тему [католические] “святые – знамение и семя единства”, которая прошла в Папском университете святого Фомы Аквинского».
«Создавая образ князя Мышкина, Достоевский вдохновлялся образами некоторых положительных литературных героев, из которых на первое место ставит Дон Кихота. Однако в каждом положительном герое Достоевский пытается узреть, прежде всего, «сияющий образ Христа». Именно евангельский образ Христа является тем безусловным нравственным ориентиром, который стоит перед глазами писателя и к которому он пытается приблизиться через личность князя Мышкина. В черновых набросках к роману он называл своего героя «князем Христом». Параллели между Христом и князем Мышкиным многочисленны. Образ жизни, мышления и действий князя резко отличается от всех окружающих. Он – не от мира сего и живет не по законам мира сего, а по евангельскому закону любви и всепрощения. Он нестяжатель, деньги и материальные блага для него ничего не значат. Он не замечает дурных качеств людей, в каждом старается увидеть только хорошее. Он преисполнен любви к людям. Он готов простить каждого еще до того, как тот попросит о прощении. Подобно тому, как Христос неожиданно вторгся в жизнь людей Своего времени, князь Мышкин неожиданно появляется на сцене, вторгается в устоявшийся быт и оказывается центральной фигурой в жизни целой группы людей. Как при ярком свете, который выявляет не только прекрасное, но и безобразное, в присутствии князя Мышкина не только обнаруживаются замечательные качества людей, но и обнажаются их недостатки и пороки. В этом смысле пришествие князя Мышкина в мир героев романа становится “судом”, перед которым каждый из них должен держать ответ. Трагедия «идиота» заключается в том, что он хочет жить по своим правилам в мире, где живут по иным правилам. Но в этом же заключалась земная трагедия Иисуса Христа: Он пришел со Своими нравственными нормами в мир, где давно уже жили по иным законам. По человеческим меркам Его проповедь на земле кончилась полной неудачей: Он был осужден и умер страшной, мучительной смертью. Воскреснув из мертвых и вознесшись на небеса, Он ушел туда, откуда пришел. Князь Мышкин приехал из далекой Швейцарии, где вел жизнь идиота в клинике доктора Шнейдера, и вернулся туда же. Потеряв рассудок после убийства Рогожиным Настасьи Филипповны, он возвращается в то царство, откуда пришел. Читатель понимает, что князь покинул этот мир безвозвратно. “Идиот” – это роман-притча с глубоким религиозным подтекстом» (митр. Иларион (Алфеев). Достоевский и Евангелие).
При этом аналогия Мышкина и св. Франциска, Зосимы и св. Франциска уже неоднократно возникала в литературе о Достоевском, что лишний раз подтверждает ее достоверность, отражение в ней реального положения вещей. В этом плане митр. Иларион лишь продолжает уже сложившуюся традицию отечественной религиозно-философской мысли, искони воспитанной на западной духовной культуре и потому всегда стремящейся к сохранению и развитию этих связей, в том числе – в толковании духовного мира Достоевского. «Тема человеческой святости и святого служения в миру очень остро интересовала Ф.М. Достоевского. И рассуждая о ее месте в творчестве писателя нельзя не вспомнить о Франциске Ассизском и той религиозно-социальной традиции, которая восходит к нему и созданному им Ордену. Во-первых, в «Братьях Карамазовых» старец Зосима сопоставлен со средневековым католическим святым из Ассизи. На это указание в самом тексте романа «Братья Карамазовы», об этом писал в свое время Н. Бердяев [Миросозерцание Достоевского], этой же теме посвящена статья В. Ветловской, уже 14-летней давности, «Pater Seraphicus» [Достоевский. Материалы и исследования. Т.5. Л.: Наука, 1983. С.163-178]. Во-вторых, в последнее время появилась тенденция связать с францисканской традицией и образ князя Мышкина. Так, в недавнем выпуске «Вопросов литературы», в статьях И. Поповой и Г. Ребель делается попытка доказать, что в образе князя Мышкина воплощены идеалы и программа францисканского смиренного служения в миру: князь, впитавший эти идеалы «доброй человечности», «духовной веселости», «ими излечившийся в Швейцарии», вернулся их проповедовать в Россию» (Степанян К. Достоевский и Франциск Ассизский).
Либо такие параллели проводятся исследователем неосознанно, но сами категории, образы и концепты, которыми пользуется достоевсковед для описания «мистики» великого русского писателя, оказываются чисто романскими, типично латинскими, по-францискански экзальтированными, то есть, лжехристианскими.
«Он – духовный колосс, сострадающий всем: при чём, чем гаже человек, тем сильнее градус, калящий душу… <…> Достоевский, едущий на телеге в Оптину, уже взрастивший тугую гроздь Карамазовых в недрах своего мистического мозга <…> едет в Россию новый Христос: возможный его вариант – нелепый в реальности, смешной и кроткий, одно слово – Идиот <…> ибо никто с такой силой <…> не проявлял сострадания, выжигая стигмат его на душах читающих многих поколений» (Балтин А. Два двухсотлетия).
«Это роман о том, как человек находит в себе Христа, научается выбирать Христа в себе и доверять Христу в себе. Для Достоевского высшее развитие личности (см. “Зимние заметки о летних впечатлениях”), прошедшей и переросшей свое эгоистическое состояние (необходимый, впрочем, этап человеческого развития), заключается в способности и даже страстном ее желании отдать себя всем, “добровольно пойти за всех на крест, на костер”, то есть — стать Христом, просиять Христом. Для Достоевского все социальные вопросы решаются одним фундаментальным способом: “если все Христы…” (фраза эта много раз повторяется в черновиках романа “Бесы”). <…> Таким образом, “Преступление и наказание” — роман о боли и радости роста человека к заданному ему размеру, то есть — об обожении. “Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть”, — писал Ф.М. Достоевский (25, 228). Самый главный призыв, обращенный к Раскольникову, прозвучит из уст следователя Порфирия Петровича: “Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего нужно быть солнцем” (6, 352)» (Касаткина Т.А. 9 вопросов о «Преступлении и наказании»).
В свою очередь, и ортодоксальная оценка духовной культуры этого рода уже давно дана и не нуждается в особых дополнениях и комментариях. «В образец аскетической книги, написанной из состояния прелести, именуемой мнением, можно привести сочинение Фомы Кемпийского под названием “Подражание Иисусу Христу”. Оно дышит утонченным сладострастием и высокоумием, которые в людях ослепленных и преисполненных страстями производят наслаждение, признаваемое ими вкушением Божественной благодати. Несчастные и омраченные! они не понимают, что, обоняв утонченную воню живущих в себе страстей, они наслаждаются ею, признают ее в слепоте своей вонею благодати! они не понимают, что к духовному наслаждению способны одни святые, что духовному наслаждению должно предшествовать покаяние и очищение от страстей, что грешник не способен к духовному наслаждению, что он должен сознавать себя не достойным наслаждения, отвергать его, если оно начнет приходить к нему, отвергать как не свойственное себе, как явное и пагубное самообольщение, как утонченное движение тщеславия, высокоумия и сладострастия. — Подобно Малпасу достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести Франциск д’Асиз, Игнатий Лойола и другие подвижники латинства, признаваемые в недре его святыми. “Когда Франциск был восхищен на небо, — говорит писатель жития его, — то Бог Отец, увидев его, пришел на минуту в недоумение, кому отдать преимущество, Сыну ли Своему по естеству, или сыну по благодати — Франциску”. Что может быть страшнее, уродливее этой хулы, печальнее этой прелести!» (свт. Игнатий (Брянчанинов). О отшельнической жизни / Собр. твор. святителя Игнатия Брянчанинова. М., «Паломник», 2003. Т.5. С.63).
Александр Буздалов
Сайт «История идей»
2 ноября 2021





