Вступительная статья из сборника стихов иеромонаха Романа на сербском языке «Jасиков шумарак» («Осиновая роща»), вышедшем в 2015 году в Белграде (с параллельным текстом на русском).
 Я ничуть не удивилась, когда он появился в моей жизни и в приёмном покое моей амбулатории, что на самом на краю света делит тягучие дни с автострадой и пивзаводом: серая вязаная скуфья, серьёзный взгляд, на груди – деревянный крест, который он протягивает для поцелуя вместо решительно убранной руки. Меня попросили сказать пару слов о его поэзии на завтрашней презентации книги и прочитать одно из стихотворений по своему выбору. Но я совсем не знаю его стихов. Я вообще не знаю, кто он. Мать Теодора изумлена: я не знаю, кто такой отец Роман Матюшин? – Нет. – Нет? Вы, наверное, единственная в православном мире, кто не слышал о нём. Его называют Есениным Православия. – Как скажете, но мне нужен текст. – А можете ли вы вылечить отца иеромонаха? – Отчего же нет? Этим я и занимаюсь всю мою жизнь.
Я ничуть не удивилась, когда он появился в моей жизни и в приёмном покое моей амбулатории, что на самом на краю света делит тягучие дни с автострадой и пивзаводом: серая вязаная скуфья, серьёзный взгляд, на груди – деревянный крест, который он протягивает для поцелуя вместо решительно убранной руки. Меня попросили сказать пару слов о его поэзии на завтрашней презентации книги и прочитать одно из стихотворений по своему выбору. Но я совсем не знаю его стихов. Я вообще не знаю, кто он. Мать Теодора изумлена: я не знаю, кто такой отец Роман Матюшин? – Нет. – Нет? Вы, наверное, единственная в православном мире, кто не слышал о нём. Его называют Есениным Православия. – Как скажете, но мне нужен текст. – А можете ли вы вылечить отца иеромонаха? – Отчего же нет? Этим я и занимаюсь всю мою жизнь.
И так, толком и не рассмотрев человека, я уже выслушивала его лёгкие, проверяла глаза, разглядывала широкие ладони и твердые подушечки пальцев. На текст не было времени, в приёмной ждали другие больные. Только на следующий день, после ночного дежурства, за чашкой крепкого кофе я принялась за эти стихи. Усталость вмиг слетела с меня, я схватила ручку и моментально зарифмовала подстрочник. Это была настоящая поэзия, которую, конечно, можно немного подпортить, но уничтожить нельзя, как нельзя уничтожить мысль, её родившую. Эти стихи несли мир туда, где он нужнее всего — в самую сокровенную глубину человеческого существа, воздвигая, камень за камнем, обрушившееся здание нашей души. Он имел подлинный опыт одиночества и молитвы. Он пережил прекрасные поэтические откровения — одиночество в глуши, наедине с Богом и сотворённой Им природой, обновление души после молитвы и плача, покаяние, сметающее призрачные замки мечты. Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз плакала над стихами: тогда это были стихи Пушкина. Слова обычные и простые, как свет, и такие же безошибочные. Потом, придя в себя, я уже не могла рифмовать — как в детстве, когда вдруг уходит радость и восторг. Я словно потеряла дар слова и дар пера. Мои переводы не укладывались в размер, теряли внутренний ритм, стихи больше не подчинялись мне и не подпускали меня к себе.
Уже на презентации, когда мы посмотрели снимки, я узнала, что самые знаменитые певцы и хоры России поют его песни… Сам он говорил спокойно и разумно. «Единственное, что определённо хорошо в моих песнях — это то, что они никого не развратили, но говорят, что многих привели к вере», —сказал он после многих похвал в свой адрес. И, словно у себя дома, по просьбе незнакомой девушки, взял гитару и вместе с матушкой Теодорой спел «Яблони детства», хотя теперь он уже не поёт на публике. Без претензий на совершенство, со всеобъемлющим миром. Это было удивительно.
Позднее, тем же вечером, в кругу друзей, мы разговаривали долго и серьёзно, но все эти разговоры забылись, потому что слова не важны. Я просто радовалась. Это человек был мой брат, мой отец по Духу. На улице к нему подошли две девушки, кричаще накрашенные и скорее раздетые, чем одетые. С ними была и мать, выглядевшая так же, что производило впечатление поистине ужасное. Но он… он разговаривал с ними так тепло, что они начали меняться буквально на глазах. Мать опустила голову и вытирала глаза. Мы наблюдали, как вянет и распадается тонкая шелуха моды, а из-под неё появляются Божьи творения. В нём была любовь. Во мне — нет. Осознав это, я содрогнулась.
И потом, во всё время, проведённое с ним, я постоянно была под впечатлением — под впечатлением простоты, патриотизма, бедности, в которой он жил и к которой искренне стремился, скромности свободного человека, для которого нет авторитетов, но есть важность каждой души. Он говорил мне: «Ах вы, сербы! Как вы невоцерковлены, как не способны понять своё собственное величие, доброту и любовь Бога к вам!» И ещё: «Лучшее, что есть у нас — это русская деревня. Здесь родилось всё лучшее, что есть в России. Если бы вы видели, как одевались русские крестьянки, с каким достоинством носили они длинные вышитые сарафаны, непременные кокошники и платки поверх них. Русские дворяне продавали или проигрывали в игорных домах Европы целые деревни вместе с их жителями. Жестокое и бессердечное русское дворянство повинно в гибели России. Подумайте только, Зорица: продать другого человека, продать, как скотину, продать сотни людей и семей — что может оправдать это?».
В Минске, на даче его друзей, хозяйка, генеральша, скромно угощала нас тем, что сама приготовила: в белом платочке, улыбающаяся, она, казалось, стесняется, как ребёнок перед взрослыми, и потому, даже садясь за стол — садилась на маленькую скамеечку сбоку. Что за люди! Они говорили шепотом и ходили на цыпочках, пока мы спали. Улыбались и пели на каждом шагу. Дивились голосу матушки Теодоры и приходили в восторг от фотографии моей внучки. Только в Минске я поняла, что отец Роман говорит по-сербски, и потому я понимаю его. Какое родство душ: он просто говорит по-сербски с русским акцентом! Он заставлял меня петь. Меня, у которой ни голоса, ни слуха? Да, говорил он, в песне — радость жизни! Ну же, пойте! И, представьте себе, оказалось, что у меня альт, и что я могу петь. Как будто кто-то скинул оковы с моего горла. И с моей души.
И эта дорога, из Беларуси в Белград. Он сидел на заднем сидении и пел, а смысл слов пробивался сквозь необычные для моих ушей созвучия: шль, дн, шч, гль. Передо мной вставало детство, успокаивающий и наполняющий радостью голос отца. Я спрашивала, как появилась эта песня. Он отмахивался: сегодня написал бы её по-другому. Этот человек, одиночка, жил среди болот, где не выдерживали ни рыболовы, ни охотники. Его мать приняла постриг после него и через десять лет умерла. Он был студентом филфака, играл на гитаре и пел, потом ушёл в монастырь, а из монастыря — в скит. Благословение слагать и петь духовные песни он получил от старца Николая Гурьянова. Он говорил нам о бездуховности, которая захватить весь мир. О нашей надменности, когда мы забываем несчастных.
Потом он рассказывал о чудесной природе в его скиту Ветрово, до которого можно добраться только на лодке, по петляющей реке, о лесе, в который он ходит с колотушкой, чтобы предупредить о своём приближении медведей, змей, волков и кабанов. Говорил о белых розах, которые сами выросли в скиту, и диких лилиях на реке. О чернике, землянике, клюкве и бруснике, растущих так густо, что человек боится растоптать их. О благоухании Ветрово — запахе сирени, белых роз и черёмухи. А с началом зимы река замерзает, и следующие три месяца никто не может добраться до него…
А вокруг нас сосновые леса сменялись дубовыми, белые берёзки перемежали неоглядные поля, сплошь покрытые жёлтыми цветочками рапса или глубокой тёмнотой пшеничной или ржаной зелени. Небо, утром прозрачное до белизны, в полдень сияло победной лазурью, а затем клонилось к тёмному бархату вечера и темноте ночи. Незабываемое путешествие.
В Белграде, когда мы снова сидели у меня дома, оказалось, что мои приятели, как и я, глубоко тронуты знакомством с отцом Романом. Они в основном молча улыбались. Никто не старался развлечь его или удивить. О, это были исключительные люди, утончённые и образованные. Они умели ценить тишину, вдруг заполнявшую пространство между нами да самых краёв. Отец удивлялся красным черешням в моём саду: в России, говорил он, таких нет. Ел их аккуратно, по одной. Нет, никаких интервью, пожалуйста, выключите диктофон. Я не хочу говорить с машиной, я хочу поговорить с вами. И всё было так невероятно высоко и спокойно — так в монастырях и в православных семьях встречают гостей, такая радость охватывает меня в Герцеговине и в Тврдоше. А может, мы споём? Да — и он поёт — матушка, переведите им. И матушка Теодора переводит эти заоблачные песни, которые напоминают о вечной жизни и бренности всего земного. Что ещё вы бы хотели услышать?
Один из моих друзей, художник-академист Зоран Чалия, прекрасный портретист, вдруг стал набрасывать портрет. Длинное, худое аскетическое лицо, строгие, светлые, всевидящие глаза. Я рассердилась.
— Зачем ты так нарисовал его, зачем? Он смотрит, как ребёнок, из глубины души! Откуда эта суровость?
Зоран искренне не понимал.
— А нарисовал то, что вижу, то, что есть.
— Он всё точно увидел, — тихо сказал отец. — Я суров.
— Вы не суровы!
— Суров.
— Нет!
Только по возвращении отца Романа в Россию я опять села читать его стихи. Некоторые из них действительно были суровы — потому что отношение к греху не может быть другим. Другие были нежными, как слова ребёнка. И тихо, с молитвой, которая возвращалась в мою душу, я принялась зарифмовывать подстрочник, переведённый моей сестрой Горданой. Без претензий на поэзию, без цели — просто потому, что хорошо было снова обрести этот дух. Течение музыки, чувства и смысла подхватило меня, как великая река Света и Доброты. Господи, позволь этому серебряному и золотому потоку не иссякнуть, но вознестись и вознести нас — к Вечности.
Зорица Кубурович,
врач, член Союза писателей Сербии,
общественный деятель
Белград, 7 мая 2013



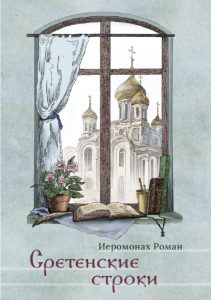




Как хорошо, Зорица, вы написали про батюшку. Действительно, в присутствии отца Романа, или читая его стихи, слушая его песнопения, мы снова и снова обретаем этот дух, входим в него, как в реку Света и Доброты. Этот поток вечен и никогда не иссякнет.
Дорогая Зорица, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за такой блестящий очерк о вашем знакомстве с Батюшкой, о пребывании вместе с ним, о его встречах с людьми, теплых беседах. Как же хорошо и доходчиво вы представили свой рассказ, читая который, мысленно пребываешь там, вместе с вами. И чувствуешь, чувствуешь рядом теплоту его сердца, слышишь этот тихий, но такой запоминающийся голос и хочется самому становиться чище и светлее. Слава Богу за всё и за встречи с отцом Романом (пусть пока и виртуальные для меня). Многая и благая ему лета!
Рада за вас, за ваши незабываемые,настоящие встречи с отцом Романом и еще раз спасибо вам за вашу публикацию. С поклоном, Раиса.