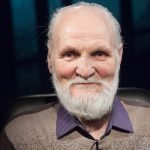 Обычно фронтовики не любят смотреть военные фильмы. Даже не оттого, что в фильмах «киношная» война, оттого, что слишком тяжело вспоминать войну. Мне кто-то рассказал про одного ветерана, бойца пехоты, который пристрастился смотреть всякие «Хроники низколетящих самолетов», всякие сериалы, смотрел и плакал и говорил соседу, тоже фронтовику: «Вот ведь, Витя, как люди-то воевали, какая красота, а мы-то все на брюхе, да все в грязи, да все копали и копали…» Ветерану начинало казаться, что он был на какой-то другой войне, ненастоящей, а настоящая вот эта, с музыкой и плясками.
Обычно фронтовики не любят смотреть военные фильмы. Даже не оттого, что в фильмах «киношная» война, оттого, что слишком тяжело вспоминать войну. Мне кто-то рассказал про одного ветерана, бойца пехоты, который пристрастился смотреть всякие «Хроники низколетящих самолетов», всякие сериалы, смотрел и плакал и говорил соседу, тоже фронтовику: «Вот ведь, Витя, как люди-то воевали, какая красота, а мы-то все на брюхе, да все в грязи, да все копали и копали…» Ветерану начинало казаться, что он был на какой-то другой войне, ненастоящей, а настоящая вот эта, с музыкой и плясками.
Мы, послевоенные мальчишки, прямо-таки бредили войной. Она была и в фильмах («Подвиг Матросова», «Голубые дороги», «Подвиг разведчика»), она была и в наших играх, и в каждом доме. Там отец не вернулся, там вернулся весь искалеченный, там все еще ждали. Мой отец, прошедший еще и со своим единственным глазом трудармию (а что это такое, лучше не рассказывать), разговоры о войне не выносил, и я не приставал. Дяди мои, на мой взгляд, тоже не подходили для боевых рассказов. Уж больно как-то не так рассказывали.
— Дядь Федя, тебя же ранило, — приставал я. — Ну вот как это?
— Как? А вот становись, я тебе по груди с размаху колотушкой охреначу, вот так примерно.
Другой дядя, моряк, был даже офицер. После войны он вернулся к своему плотницкому ремеслу. Мы крутились около, помогая и ожидая перекура. Спрашивать опасались, мог нас послать не только в сельпо — подальше. Но дядька и сам любил вспомнить военные денечки.
— Ох, — говорил он, — у нас в буфете, в военторге, две бабы были, умрешь не встанешь. К одной старлей ходил, к другой вообще комдив. Однажды… — Тут нам приказывали отойти, ибо наши фронтовики, в отличие от сегодняшней демократической прессы, заботились о нравственности детей. Но то, что нам позволяли слушать, было каким-то очень не героическим.
— Дядья, — в отчаянии говорил я, — ведь у тебя же орден, ведь ты же катерник, ты же торпедник, это же, это же!
— Ну и что орден? Дуракам везет, вот и орден, — хладнокровно отвечал дядя, плюя на лезвие топора и водя по нему бруском.
— Ну расскажи, ну расскажи!
— Не запряг, не нукай. Уж рассказывал. Подошел транспорт, надо потопить.
— Транспорт чей? — уточнял я. Это больше для друзей.
— Немецкий, чей еще? Послали нас. Как начальство рассуждало: пошлем катер, загнутся четверо — невелика потеря, и рассуждали правильно: война. Четыре торпеды. Торпеды нельзя возвращать, надо выпустить. Категорически. Мы поперли. Я говорю, дуракам везет, на наше счастье — резко туман. Везет-то везет, но и заблудились. Прем, прем да на транспорт и выперли. С перепугу выпустили две торпеды и бежать со всех ног…
— Почему с перепугу?
— А ну-ка сам вот так выпри на транспорт, это ж гора, а мы около как кто? То-то. Бежать! Утекли. Еле причал нашли. Ну, думаем, будет нам. Торпеды приперли. Я с горя спирту резанул. Вдруг из штаба — ищут, вызывают. А куда я пойду, уж расколотый, мутный. «Скажите, — говорю, — что башкой треснулся, к утру отойду». В общем-то кто-то все равно настучал, что я взболтанный. А почему вызывали — транспорт-то мы потопили! Вот мать-кондрашка, сдуру потопили. Так еще как приказ-то звучал: «…используя метеорологические условия и несмотря на контузию, и экономя, слышь, боезапас…» — вот как!
— За это надо было Героя дать, — убежденно говорил я. Спустя малое время, окончив десятилетку, я стал работать литсотрудником районной газеты. И получил задание написать о Героях Советского Союза. Их у нас в районе было четверо. Но один уже сидел в тюрьме за то, что надел свои ордена и медали на собаку, а сам стрелял из охотничьего ружья в портрет отца народов: второй, инвалид, ездивший на трехколесной трещащей инвалидной самоходке, был куда-то увезен, говорили, что в интернат для ветеранов. На самом же деле инвалидов просто убирали с глаз долой, была такая политика, чтоб поскорее забыть войну, чтоб ничего о ней не напоминало.
Уже и холодная война заканчивалась, уже Хрущев съездил в Америку, постучал ботинком по трибуне ООН, уже велел везде сеять кукурузу, уже подарил Крым своей бывшей вотчине, тут и фронтовиков решили вспомнить. И мне — не все же кукурузу воспевать — выпала честь написать очерк для нашей четырехполоски «Социалистическая деревня». Редактор узнал, кто из двух оставшихся Героев передовик мирного труда, и выписал командировку. Мы не ездили в командировку, а ходили. Так и говорили: пошел в командировку. На юг района — сорок километров, на запад и восток — по тридцать, на север — шестьдесят; все эти километры я исшагал и по жаре, и по морозу, и в дождь, и в метель. И какое же это было счастье, это только сейчас доходит до сознания. Как мела через дорогу узорная поземка, как напряженно и все-таки успокаивающе гудели столбы, как далеко по опушке леса пролетало рыжее пламя лисы, как проносился, ломая наст, тяжелый лось, а весной далеко и просторно разливалась река и попадали в заречную часть только на катерах сплавконторы. А летние вечера, белые от черемухи улицы деревень, а девичий смех, от которого туманилась голова и ощутимо билось сердце, что говорить!
Герой будущего очерка был механизатором. В военкомате я выписал все данные на него и знал, что он получил Золотую Звезду за форсирование Днепра. Готовые блоки фраз уже были в фундаменте очерка: «В то раннее утро рядовой такой-то такого-то энского полка встал до соловьев (мне очень хотелось про соловьев). Он подошел к Днепру, умылся речной водой и вспомнил родную реку детства, свое село» (мне очень хотелось, чтобы на Днепре вспомнили Вятку и мое село)… Ну и далее по тексту.
— А вы вспоминали в то утро свою родину? — спросил я, когда, найдя Героя, стал его допрашивать.
— В какое утро?
— В утро форсирования Днепра.
— А, нет, мы ночью погребли.
— Но вспоминали? (Я мысленно переделал утро на тревожную ночь.)
— Может быть, — неохотно отвечал механизатор. — Тут баба с печки летит, сто дум передумает.
— Вы вызвались добровольцем?
— Да, вызвался.
— Почему именно?
— Дурак был. — Механизатор посмотрел на меня. — Вроде вас возрастом. Молодой был, вот и попер. Там как заинтересовывают — сто первых выйдут на плацдарм, зацепятся, день продержатся — Герой. Кто? Ну и пошел два шага вперед.
— Но вы же потом не жалели, когда получили награду?
— Чего жалеть, вот она. Сейчас, правда, льготы за ордена и проезд бесплатный сняли, а так чего ж… в школу приглашали.
— Да, правильно (надо в школе побывать), дети должны стать патриотами.
Сделаю отступление. Мы вырастали так, что умереть за Родину было нашей главной мечтой. О, сколько раз мы играли в Матросова, сколько же раз закрывали грудью амбразуру и умирали. Умереть за Родину было так же естественно, как дышать…
Я принес очерк редактору. Отдал и встал навытяжку. По лицу читающего очерк редактора я понял, что отличился. Только два места он вымарал:
— Что это такое — вспомнил родину? А Днепр разве не наша родина? (Тогда не было позднее выдуманного термина «малая» родина.) И второе: «Прямо в песке закопали убитых товарищей». Напишем: «После боя отдали воинские почести павшим».
Я не возражал. Но за день до запуска очерка в печать редактор позвонил в колхоз, где работал механизатор, и узнал, что тот напился и наехал трактором на дерево. Редактор срочно послал меня на лесоучасток, где жил последний, четвертый, Герой.
Лесоучасток назывался красиво — Каменный Перебор, может, оттого, что стоял на берегу прозрачной каменистой реки Лобани. Этот Герой тоже был механизатором и тоже получил Звезду за форсирование реки. Но не Днепра, а Одера.
— Да и Вислу форсировали, — сказал он. Он все-таки был хоть чуть-чуть поразговорчивей, чем сельский. — Потом всяких французов, датчан выколупывали.
— Как? — спросил я потрясенно. — Французы же наши союзники.
— Да ладно, союзники, — отвечал он. — Какие там союзники, все они там повязаны. Европа вся сдалась немцам, они ее не тронули, потом они им и отрабатывали. Ну-ка сравни Минск и Париж, чего от них осталось?
— Но французское Сопротивление?
— Было. Но раздули, — хладнокровно отвечал он. — У них по лагерям лафа, артисты ездили, нашим — смерть. Это, братишка, была война великая, но помогать они стали, притворяться, когда мы переломили Гитлеру хребет. Еще те сволочи, — неизвестно о ком сказал он. — Да вот хоть и американцы. Встреча на Эльбе, встреча на Эльбе — кукарекают. А что встреча? Вот я тебе про встречу расскажу. Мы пошли мая десятого-одиннадцатого по Берлину — уже везде американские часовые торчат, патрули американские, они большие мастера победу изображать. Зашли, сели в ресторане. Второй этаж. Внизу лужайка. В углу американцы гуляют, ржут. И чего-то в нашу сторону дали косяка, чего-то такое пошутили. Ну мы и выкинули их в окно.
— Как? — спросил я потрясенно. — Выкинули в окно? Американцев?
— Ну. Да там же лужайка, не камни же. Потом туда им столы выкинули и стулья. И велели официанту отнести чего закусить и выпить.
— А… а дирекция ресторана?
— Эти-то? Еще быстрее забегали. Мы так хорошо посидели. Серьезно посидели, — добавил он, — и пошли. И идем мимо американцев. Те вскакивают, честь отдают. Вот это встреча на Эльбе. С ними только так. А то сейчас развякались «инди-руси, бхай-бхай», это с американцами-то? Да эти бы Макартуры и Эйзенхауэры первыми бы пошли давить нас, если бы Гитлер перевесил. Вот немцы могут быть друзьями, это да.
Я был так потрясен этой крамольной мыслью, что зауважал фронтовика окончательно.
Вот такие дела. И еще сорок лет прошло, протекло как песок в песочных часах. Живы ли вы — мои милые герои?.. Я вспоминаю вас и низко кланяюсь всем вам, моим отцам, спасшим Россию.
И думаю: вы-то спасли, а мы продали. Продали, и нечего искать другого слова. Продали и предали. И вот я иду по оккупированной России, через витрины, заваленные западным химическим пойлом и куревом, отравленной пищей, лаковой порнографией, смотрю на лица, искалеченные мыслью о наживе, смотрю, как ползают на брюхе перед американской помощью экономисты, как политики гордятся тем, что им пожал руку саксофонист, и думаю: «Россия ты, Россия, вспомни своих героев. Вспомни Александра, царя, который в ответ на какие-то претензии англичан к нам, высказанные послом Англии за обедом, молча скрутил в руках тяжелую серебряную вилку, отдал послу и сказал: «Передайте королю». Или, когда он ловил рыбу, ему прибежали сказать, что пришло какое-то важное донесение из Европы, а он ответил: «Европа подождет, пока русский царь ловит рыбу». Но ведь и наш, нынешний, тоже ловит рыбу. А вот интересно: он ловит, а ему бы прибежали сказать охранники, что зовет Буш. Ведь бросил бы, чай, удочку.
Еще могу добавить, уже от себя, что не только те, при встрече на Эльбе, американцы трусливы, но и теперешние. У меня есть знакомый американец, русист. Он с ужасом сказал, что все эти «марсы», «сникерсы», стиральные порошки, средства для кожи и волос — все это жуткая отрава и зараза.
— Тогда спаси моих сограждан, — попросил я, — выступи по телевизору. Тебе больше поверят, чем мне.
И что же? Испугался смертельно мой американец. Разве осмелится он хоть слово вякнуть против тех компаний, которые наживаются у нас? Не посмеет.
А еще почему трусливы американцы? Они жадны. А жадность обязательно обозначает трусость. Давайте проверим — вот придет в России к власти то правительство, которое любит Россию, не шестерит перед разными валютными фондами, верит в народ, в Бога, знает, что нет запасной родины, и что? И все эти сникерсы сами убегут.
В годы детства и отрочества, помню, часто печатались в газетах и журналах фотографии и рисунки из разных стран, на которых были написаны слова: «Янки, гоу хоум», то есть — «янки, уходите от нас». Все беды мира связывались с американской военной или экономической оккупацией. И наши беды отсюда. Так что на вопрос «Что делать?» отвечаем: писать на заборах и в газетах: янки, гоу хоум. Не уйдете в дверь, выкинем в окно. На лужайку. Перед Белым домом.
Владимир Крупин
1992






А до нас, ныне живущих в России, как-то это правда не доходит. «Еще те сволочи, — неизвестно о ком сказал он. — Да вот хоть и американцы. … И вот я (Владимир Крупин) иду по оккупированной России, через витрины, заваленные западным химическим пойлом и куревом, отравленной пищей, лаковой порнографией, смотрю на лица, искалеченные мыслью о наживе, смотрю, как ползают на брюхе перед американской помощью экономисты… «.