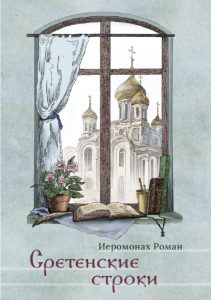Так, элитарный художник, осознавший свою «богоизбранность» (свое творчество как духовный «канал» Божественного откровения, альтернативный «официальному христианству»), оказывается в оппозиции к канонической Церкви и, тем самым, принципиально не отличается (с точки зрения Христианства как такового, или объективно) по своему плачевному духовному состоянию от заурядного обывателя, убежденного, что все (или почти) попы – не более чем торговцы «религиозными услугами», а «менты» это «мусора́», сторожевые псы власти, которая сама «враг народа». Прежде подобными «народными мудростями» расписывались городские стены, а теперь – форумы в социальных сетях. Массовая культура всегда криминальна по своей сути. Она «левее» (революционнее), радикально демократичнее, анархичнее, чем буржуазный либерализм, хотя они и растут из одного нигилистическо-богоборческого корня. И в этом анархизме самая низовая субкультура смыкается с романтизмом, в котором анархизм выведен уже на метафизический уровень титанизма, где оппозиция имперской симфонии государства и Церкви («византизму» – в терминах Лескова, «Риму» – в терминах Достоевского, «цезарепапизму» – в терминах Булгакова, «соработничеству» – в терминах Звягинцева) – это лишь идеализация первородного греха непокорности Богу. Потому что если преподобные «вредят людям» (а прометеи гуманизма, напротив, страстно хотят «помочь»), то, значит, и Тот, Кому они преподобны, тоже «вредит». Поэтому и духовенство, поскольку оно тоже власть, в этой топорной мифологии автоматически «вне народа»[1]. И, как в случае с героем Достоевского (автором Легенды об Инквизиторе в романе), «бунт» главного героя фильма выходит далеко за пределы противления властям предержащим и выражается в вопросе священнику: «Ну, и где твой Бог?» И стоит за этим всегда религиозный нигилизм самого художника, за которым, в свою очередь, стоят те же самые нераскаянные личные смертные грехи, что и у его маргинальных героев, только сублимированные в «вечные вопросы», в святую борьбу с миропорядком.
Так, элитарный художник, осознавший свою «богоизбранность» (свое творчество как духовный «канал» Божественного откровения, альтернативный «официальному христианству»), оказывается в оппозиции к канонической Церкви и, тем самым, принципиально не отличается (с точки зрения Христианства как такового, или объективно) по своему плачевному духовному состоянию от заурядного обывателя, убежденного, что все (или почти) попы – не более чем торговцы «религиозными услугами», а «менты» это «мусора́», сторожевые псы власти, которая сама «враг народа». Прежде подобными «народными мудростями» расписывались городские стены, а теперь – форумы в социальных сетях. Массовая культура всегда криминальна по своей сути. Она «левее» (революционнее), радикально демократичнее, анархичнее, чем буржуазный либерализм, хотя они и растут из одного нигилистическо-богоборческого корня. И в этом анархизме самая низовая субкультура смыкается с романтизмом, в котором анархизм выведен уже на метафизический уровень титанизма, где оппозиция имперской симфонии государства и Церкви («византизму» – в терминах Лескова, «Риму» – в терминах Достоевского, «цезарепапизму» – в терминах Булгакова, «соработничеству» – в терминах Звягинцева) – это лишь идеализация первородного греха непокорности Богу. Потому что если преподобные «вредят людям» (а прометеи гуманизма, напротив, страстно хотят «помочь»), то, значит, и Тот, Кому они преподобны, тоже «вредит». Поэтому и духовенство, поскольку оно тоже власть, в этой топорной мифологии автоматически «вне народа»[1]. И, как в случае с героем Достоевского (автором Легенды об Инквизиторе в романе), «бунт» главного героя фильма выходит далеко за пределы противления властям предержащим и выражается в вопросе священнику: «Ну, и где твой Бог?» И стоит за этим всегда религиозный нигилизм самого художника, за которым, в свою очередь, стоят те же самые нераскаянные личные смертные грехи, что и у его маргинальных героев, только сублимированные в «вечные вопросы», в святую борьбу с миропорядком.
Поэтому и романтическому отрицанию социалиста Ивана Карамазова противопоставляется у Достоевского отнюдь не догматика Церкви (к примеру, «схоластика» преп. Иоанна Дамаскина, «вредителя» не меньше Великого Инквизитора, по Лескову)[2], но романтическое же «православие» («русский социализм») собственного измышления: «Мой социалист (Иван Карамазов) — человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом “Великого Инквизитора” на человечество и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены: “Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие”. И все это будто бы у них [социалистов] во имя любви к человечеству: “Тяжел, дескать, закон Христов и отвлеченен, для слабых людей невыносим” — и вместо закона Свободы и Просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом»[3].
Как мы видим, все вертится вокруг уважения или презрения к человеку, а не веры или неверия Богу (как и в фильме: «Отец Василий, я же с тобой по-человечески, а ты мне» Священное Писание цитируешь). Христианство, по Достоевскому, это «закон сильных людей», «взгляд на человечество, вознесенное Христовой верой до той высоты, на которой человечество стоит на самом деле», или «закон [нравственной] Свободы и Просвещения». «Смысл [поэмы о Великом инквизиторе] тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие [безверие в человечество], вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему»[4]. Все это типичный европейский гуманизм («высокий взгляд на человечество»), утопическое социал-христианство, все то же гностическое язычество («первый Рим»), по сути, где «человек есть мера всех вещей». «Божественное» («Христос-идеал») здесь свойственно человеку по самой природе (которую можно только нравственно исказить, а потом, воспрянув духом и сделав титаническое усилие воли, снова воссоздать – сначала в самом себе, а потом и в социальном космосе, в истории мира, в эволюции «скитающегося» в мировой «пустыне» человечества, «в ходе своего развития переходящего сначала от веры к безверию, а затем к новому обретению потерянной им веры через приобщение к народу и его идеалу “русского Христа”»[5] (то есть, гностического «Христа», каббалистического «Всечеловека»).
В отличие от Лескова, Достоевский после каторги и закрытия как крамольного семейного журнала «Время» (рентабельного органа почвенничества, запрещенного, кстати, как раз за антироссийскую политическую статью Н. Страхова), после разорения и смерти в результате этого старшего брата – Михаила Достоевского, уже не мог себе позволить открытой критики или сатиры в отношении власти. Поэтому весь неизрасходованный запал почвеннического антропотеизма (как нигилизма в отношении догматов Церкви) пошел на карикатуры на Христианство не прямые, но скрытые (в том числе от самого себя, обольщенного) в виде идеализаций греха (вроде ренессансной квазихристианской живописи, например, «Введения во храм» Тициана, где упитанная девочка бодро, как ярко выраженный экстраверт, без тени смирения марширует по лестнице, как дочка члена Политбюро – в обком, или как почвенник – в грядущий «всечеловеческий» Интернационал).

Между тем такая профанированная, «душевная» апология Христианства не многим лучше его прямого отрицания (в частности, гротескного до безобразия неверующего и плотоядного архиерея в «Левиафане»), вернее – составляет с ней неразрывное целое, как диалектически единые противоположные формы одной идеологии (просветительского гуманизма, антихристианского и в романтической форме «всечеловеческого идеала», и в форме нигилистического отрицания святыни). Есть подобная профанация Христианства и в фильме Звягинцева – это неуместная параллель между скабрезным главным героем и одним из ветхозаветных праведников Иовом (угодившим Богу смирением), о чем как о «протосюжете» говорит режиссер в интервью телеканалу «Дождь» (пусть и с оговоркой об относительности сравнения). Есть подобная карикатура на книгу Иова и в романе Достоевского, где «старец» Зосима так боголовски-вульгарно ее пересказывает: «И вот восходит к Богу диавол вместе с сынами Божьими и говорит Господу, что прошел по всей земле и под землею. “А видел ли раба моего Иова?” — спрашивает его Бог. И похвалился Бог диаволу, указав на великого святого раба Своего. И усмехнулся диавол на слова Божии…»[6]. Исходом же из такого толкования и здесь становится, с одной стороны, отождествление героя (Зосимы) с великим Божиим угодником (и предвкушение им своей ослепительной будущности: «Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце», отнюдь не о грехах своих плачет, заметьте); а с другой – обличение низменного клира («слышал я не раз, а теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас иереи Божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое и прямо заверяют, даже печатно, — читал сие сам, — что не могут они уже теперь будто бы толковать народу писание, ибо мало у них содержания, и если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало-де у нас содержания. Господи! думаю, дай Бог им более сего столь драгоценного для них содержания…»).
И в этом смысле «Левиафан» сделан в «лучших традициях» отечественной классики, которая по преимуществу черпала свои вдохновения в прельщениях западного идеализма («сближаясь в интимной духовной глубине человека с откровением о нем самом» (А. Звягинцев); «основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия <…> это мысль христианская и высоконравственная; формула ее — восстановление восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков» (Ф. Достоевский))[7], и поэтому сама была заражена романтическим мнением о себе как избраннице небес; сублимированными страстями гностического «катарсиса», потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут (Рим. 8:7), в какое бы золотое руно «нравственного идеала» при этом ни рядилась. Даже если герой отечественной классики – это спивающийся в провинции маргинал или блудница эконом-класса, он все равно мнит себя Прикованным Прометеем, к которому безбожно несправедлива завистливая к его добродетелям и талантам судьба-злодейка, в бедах которого виноваты правительство и Священный Синод, в результате прямого заговора которых он и докатился до такой жизни. А сам по себе он сущий Небожитель, «заеденный средой»; Демиург, невостребованный навсегда опереженной им эпохой; погребенный заживо истинный Губернатор и Епископ этой местности в одном лице. Как писал Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», барочным слогом сокрушаясь о заражении им собственной супруги венерическим заболеванием: «Но кто причиною, что сия смрадная болезнь [смертоносный яд, источающийся в веселии] во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиною, разве не правительство? Оно дозволяло распутство мздоимное…» Ну вот, виноватых нашли, теперь, как говорится, что делать? – Разумеется, преобразования, включая обновление Церкви, потому что – кому же еще. «Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалося в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалося суеверию». А на самом деле вот как правильно Богу молиться: «Егова, Юпитер, Брама; бог Авраама, бог Моисея, бог Конфуция, бог Зороастра, бог Сократа, бог Марка Аврелия, бог христиан, о бог мой! ты един повсюду. <…> Ты ищешь, отец всещедрый, искреннего сердца и души непорочной; они отверсты везде на твое – пришествие. Сниди, господи, и воцарися в них». – Вот это он и есть, Канал Творца собственной персоны, Искренний и Непорочный во всем своем «смрадном яде».
Поэтому признание, которое такого рода художества отечественного производства иногда получают на Западе, объясняется не только попаданием в актуальный там идеологический спрос (ввиду мощного антироссийского и антиправославного заряда), но и еще этим органически сродным Западу гностическим духом прельщения, «космического» самомнения (Достоевский, кстати, тоже, как и «Левиафан» Звягинцев, на Западе едва ли не более популярен, чем в России, сам папа Франциск его высоко ценит: не иначе как за романский дух). Пессимизм же в данном случае, или антиутопизм, это прямое следствие экзальтированного оптимизма, или утопизма, предыдущего идеалистического периода, как неизбежное разочарование после романтического очарования, или «постскриптум страстей». Другая пара мнимых противоположностей, или полюсов одной культуры, которые сходятся в этом гностическом гуманизме, это нравственные формулы «человек человеку волк» (либерализм) и «человек человеку брат» (романтизм). При этом отличие Достоевского от Гоббса лишь в том, что Федор Михайлович, противопоставляя первому (хищническому материализму и мещанскому атеизму, общественно-политическому строю западной цивилизации на стадии капитализма) второе («русский социализм») выдавал это за «православие». Гоббс же, как не питающий иллюзий рационалист, похоже, вполне отдавал себе отчет, что обе эти формулы являются языческими: «Если говорить беспристрастно, то оба высказывания [«Человек человеку волк» (Плавт Т.М. Асинария) и «человек есть нечто священное для человека» (Сенека Л.А. Нравственные письма к Лукрецию. XCV, 33)] верны; человек человеку является своего рода Богом, и, верно то, что человек человеку — волк, если мы сравним людей между собой» (Гоббс Т. De Cive).
Отсюда и плоды безверия, приносимые ныне этой классикой в результате становления все той же «всеотзывчивой» культуры, черпающей свой нигилистический заряд из внутреннего источника. В частности, лучшим доказательством безверия создателей фильма «Левиафан» является его сюжетная основа: на месте «родового гнезда» героя строится Божий храм. Неважно, кто и какими средствами это сделал, как грубо при этом были нарушены его гражданские права, сколько поколений его предков в этом доме прожили… Если бы это была действительно христианская душа, она была бы только счастлива принести такую жертву распявшемуся за него Господу Богу, чтобы только там, в святом храме Божием, Святая Церковь молилась своими святыми молитвами за всех его прежде почивших близких, за всех создателей и благодетелей этого храма, а значит, и за его (главного героя) левиафаноподобную душу, уже здесь палимую адским пламенем греховных страстей. Все остальное – красивая человеческая ложь.
«Проследите все европейские литературы нашего [девятнадцатого] века, и вы увидите во всех следы той же идеи [оправдание униженных парий общества], и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, „Божественная комедия” выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов»[8]. И вот эта фундаментальная идея гностического самоискупления общеевропейского гуманизма, действительно, воплотилась к концу века в «Заратустре» Ницше, то есть в идеи Сверхчеловека, потому что сам «Богочеловек» романтизма («Христос» Ренана, Шеллинга, Достоевского и т.д.) был этим самым гностическим Сверхчеловеком, только это еще было прикрыто «овечьей шкурой» нравственных «идеалов». Поэтому и новейшие классики отечественного искусства ничем не погрешают против этой «священной» традиции.
Александр Буздалов
Сайт «Ветрово»
10 января 2020
Александр Буздалов. От «Карамазовых» к «Левиафану»: диалектика культуры. Часть первая
[1] Достоевский Ф. Записная тетрадь 1875-1876гг. / Д.,XXIV,80. Ср.: «Семинарист, сын попа, составляющего status in statu, а теперь уж и отщепенца от общества, а казалось бы, надо напротив. Он [поп] обирает народ, платьем различается от других сословий, а проповедью давно уже не сообщается с ними. Сын его, семинарист (светский), от попа оторвался, а к другим сословиям не пристал, несмотря на все желание. Он образован, но в своем университете (в Духовной академии). По образованию проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям…» (Достоевский Ф. Записная тетрадь 1876-1877 гг. / Д.,XXIV,241). ↩
[2] Ср.: «Вообще необходимо остановить свое внимание на отношении о. Булгакова к свв. Отцам и учителям нашей Церкви – этим главным авторитетам во всех вопросах нашего православно-христианского вероучения. Игнорируя, как мы видели, такой же авторитет самых наших Вселенских Соборов, он относится с поразительным небрежением и к учению свв. Отцов, в том числе таких наших светил и авторитетов, как святые Афанасий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин» (Определение Архиерейского Собора РПЦЗ от 17/30 октября 1935 г. о новом учении протоиерея Сергия Булгакова о Софии / архиеп. Серафим (Соболев). Защита софианской ереси протоиреем С. Булгаковым пред лицом Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви. София, 1937. С.3-21). ↩
[3] Достоевский Ф.М. – Алексееву Н.А. 11.06.1879 / Д.,XXX(1),68. ↩
[4] Достоевский Ф. Вступительное слово, сказанное на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. перед чтением главы «Великий Инквизитор» / Д.,XV,198. ↩
[5] Фридлендер Г. М. Примечания / Д.,XV,400. ↩
[6] Достоевский Ф. «Братья Карамазовы». Ч.2, кн.6, гл.II, б / Д.,XIV,264. ↩
[7] Достоевский Ф. Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» / Д.,XX,28. ↩
[8] Там же. ↩